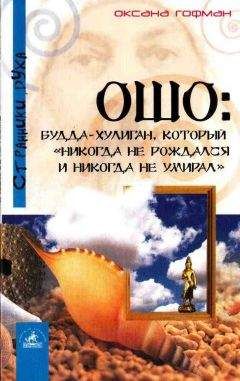укрепляла ее дух.
Да, порой она слышала мужа, но чаще находилась в другом мире, в нем она как бы не ощущала себя, была что-то прозрачное и легкое, непреломляемое в своем спокойствии. Это спокойствие — следствие того, что она хорошо исполнила выпавшее на ее долю предназначение в жизни, которая теперь отдалялась от нее. Жаль, конечно. Но жалость как бы существовала не в ней, сделавшаяся совсем не то, что обозначала, а точно бы отметилась черными точками в пространстве. И Майя нет-нет да и сталкивалась с ними, и, когда не успевала отодвинуть их со своего пути, они вроде бы входили в нее, и тогда что-то смутное касалось ослабевшего сердца, она вздрагивала, открывала глаза и видела себя уже не в саду Лоумбини, а на царском ложе, осыпанном жасмином и цветами, а возле ложа Суддходану. Она смотрела на него долгим взглядом и грустно вздыхала. Но через день к ней не стало приходить узнавание себя в жизни. Она сделалась чуждой живому миру, хотя сердце еще билось и мысль про что-то говорила… Правда, услышанное уже ни к чему не влекло, точно бы не касалось Майи. Еще через день она уже никого не слышала, вся как бы воспарила над миром быванья и ничего не различала в отдельности и воспринимала прежнюю жизнь как нечто стремительное и мимолетное, точно проблеск луча в зоревом утре. Зато открывшееся перед нею, пространственное и неподвижное, причудливо очерченное, когда и не знаешь, что там, впереди: обычные ли гряды облаков, строенья ли дивных городов, место ли обетования Богов и ангелоликих дэвов, а может, не это, другое, но так же влекущее к себе, заманивающее, зрилось в удивительном своей необычностью свете. Она, верно что, сознавала его и раньше, только тот свет не был так мягок и чист… Да, да, она как бы воспарила над миром быванья и теперь подымалась все выше и выше. Она не знала, куда именно, может, и на тридцать третье небо, которое однажды привиделось во сне. Тогда Майя услышала от дэвов, что она подарит миру Возвышенного Духом и за то вознесена будет на тридцать третье небо.
Майя окончательно покинула мир бывания, так и не осознав этого, не ощутив черты, что отделяла сущее от его подобия. Для нее точно бы ничего не произошло. Она просто сделалась совсем другое, отличное от того, что представляла из себя раньше. Но Суддходана сразу заметил эту в ней перемену и был в великом горе. Он страстно любил Майю и не хотел согласиться с тем, что она ушла… Он думал, она впала в глубокий сон, когда джива, управляющая жизненным началом в человеке, точно бы уставши, расслабляется, делается почти не ощущаема посторонними, освобождается от утомления, отчего душа легко покидает человека. Но ненадолго. Суддходана хотел бы верить в это и говорил всем, кто входил в царские покои:
— Майя уснула, не станем будить ее, а то пуруша [13] не найдет обратной дороги. Я помню, так уже бывало однажды. Тот человек, которого намеревались разбудить и напугали, хотя и жил еще долго, оглох и уже ничего не слышал… Не беспокойте Майю, она сама проснется, она так устала…
Но Майя не проснулась. Пришли жрецы и долго убеждали Суддходану, что царица теперь в другом мире. А потом на нее надели пышные одежды. На высоком месте, в междуречье, развели погребальный костер. Жрецы говорили с Богами, молитвенно сложив руки и неподвижно глядя перед собой и долго не подымаясь с колен. Но вот принесли Майю, завернутую в белый саван, и положили на костер. Пламя подымалось все выше, выше, искры падали на землю и медленно угасали. Повсюду были разбросаны горящие тихим светом свернутые тонкими дрожащими кольцами принесенные к погребальному костру розы Иерихона. Они, казалось, уже высохли совершенно и не взбодрятся, не осветят землю вокруг себя, но опусти их в воду и — зацветут, словно бы в утверждение неизменности сущего, вечности, которая начинается в тех небесных глубинах, куда утягивается желтый дым.
Все ушли, а царь сакиев точно бы не замечал этого. Вот и ночь отлетела и костер погас, и ничего уж теперь не отыскать от Майи, лишь пепел, сделавшийся сырым и тяжелым, и надо бы идти во дворец, там сын, там его надежда, но он не сдвинется с места, блестят глаза у него и на смуглых щеках посверкивает…
Сакии издавна жили на самой границе арийского мира, были щитом, заслонявшим его от индийских царей и от многочисленных горных диких племен. Сакии часто обнажали меч, чтобы оберечь свою свободу, жили как бы в постоянном напряжении, не в силах освободиться от него полностью, все ж среди них не было людей растерянных, потерявших себя, они, хотя и стесненные жизненными обстоятельствами, оставались верны тому, что было им дорого, и надежно, уверенно продвигались по реке жизни, которая, случалось, выйдя из берегов, грозила захлестнуть их. А что можно противопоставить этому, есть ли сила, способная поломать от века не кому-то в отдельности, а народу, пускай и немногочисленному, принадлежащую силу и уверенность? Да что там! Больше всего сакии дорожили свободой и не променяли бы ее ни на какие блага, и не столько физической, которая от слабости человека, от его неспособности сохранять себя в пространстве и во времени, а нравственной свободой, способностью быть духовно независимым и не поддаваться даже увещеваниям жрецов, если что-то вдруг не понравится в их наполненных тайной действиях. Упрямство сакиев, и Суддходана не однажды являлся тому свидетелем, удивляло чужеземцев, злило, про это много говорили и пытались найти объяснение, и находили в свойстве характера сакиев, в их неблаговоспитанности, в стремлении доверяться лишь своим ощущениям. Случалось, и судра, на какое-то время позабыв о своем несчастье и уверовав в скорее благополучное перерождение, страгивался с рабского круга жизни и говорил:
— Я, Господин, живу так, потому что так угодно Богам. И я терпеливо сношу обиды, и благодарен тем из людей, кто проявляет ко мне милосердие. И ты, о, Господин, будь милосерден!
Судра говорил тихо и как бы раздумчиво, но чужестранец тем не менее отмечал упорство несчастного, его твердое нежелание менять что-либо в своей судьбе.
Во дворце тихо, и людей не видно, точно бы все покинули покои, но, напрягшись, можно было услышать чьи-то легкие, почти беззвучные шаги, а то и скрип подошв рисовых сандалий по ровному, без единой щербатины, полу. Изредка вдруг улавливалось чье-то тягостное воздыхание или почти не