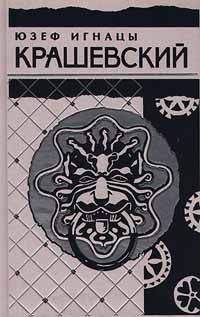дверь, ругала, впуская более подозрительных, следила, чтобы группами не входили.
Иногда на пороге доходило до бури, в которой старая торговка, не умеющая отмерять слова, давала узнать себя давним приятелям Франка. Зато к Анне проявляла всё больше уважения, заботу, почти материнскую благодарность, и со слезами целовала её белые ручки, на что растроганная девушка, забыв о предубеждении, обнимала её колени.
Но, увы, Анна очень редко могла прийти, отец был суровым, пан Эдвард неумолимо за ней шпионил; была теперь другая служанка, а поэтому было меньше причин выбегать в город, и дольше в нём задерживаться. Проводить время у Франка ей было нельзя, она пожимала ему руку и грустная уходила, а находила его теперь удивительно хмурым, всё более мрачным, хотя силы и здоровье возвращались.
На сердце его лежал какой-то могильный камень, чувство, которое сам себе объяснить не мог; знал, что происходит нечто, что весь город дрожит, что волнуется и крутится в болезне нетерпения – а он сидел взаперти и бездеятельный… едва гул долетал издалека.
Так наступили первые дни апреля.
Чувствовалось, что приближается какой-то перелом. С каждым днём народ выступал более грозно и смело, улицы кишели, – когда как гром упала на всех новость о роспуске Землевладельческого Общества.
А так как всё тогда служило поводом к манифестации, можно было не сомневаться, что и этот удар, неверно нацеленный на унижение страны, на дезорганизацию её, чтобы на руинах строить новый беспорядок, также вызовет проявление сочувствия к Обществу и его явному главе.
Был это также последний день триумфа, по-настоящему грустный день. Сбежались тысячные толпы, чтобы увенчать здание Общества и повесить на нём эмблему старой Польши, потом потекли, вызывая Замойского, чтобы показать ему, что то, что хотели убить, поднимается, что достойный муж хорошо послужил родине своей стойкостью.
В смотрящих на эти признаки запала русских было видно, что уже готовы были противостоять, что ждали только повода, чтобы схватиться за оружие, за своё единственное оружие, потому что другого, кроме палки и животной силы, не имели и не верили ни в какую иную.
Вечером того дня, когда умы молодёжи разогревались одержанной победой, у старших головы склонились на грудь, обременённые зловещими предчувствиями. В людях росли смелость, разгорячённость, желание какой-то новой жизни, ослепляющие взгляд на последствия; в правительстве появился новый элемент деспотизма, вынутый из наших собственных внутренностей, человек, который так не колебался пролить чужую кровь, как другие пролить собственную.
На следующий день после овации ничего на вид не изменилось, но под вечер оживление в толпах, казалось, снова объявляет какую-то манифестацию, впрочем, привычную уже и повседневную.
Вечером стоял Янек, опираясь на трость, у окна; старой Ендреёвой не было дома. Он дремал, прислушиваясь к шуму города, когда со стороны Замковой площади до него донёсся как бы шум далёкой волны, как бы отдалённый хор тысячи смешанных голосов. Знал он уже эти звуки и ухо его подхватило в них предчувствие какой-то новой борьбы.
Он снова был один, сердце сильно забилось, грудь кипела; он чувствовал, что там в городе что-то делалось…
То слышались более оживлённые голоса, то исчезали, утопая в могильной тишине. Что-то, словно звук бубна, иногда печально доносился издалека, что-то, как бы поспешные шаги солдат. Франек облился смертельным потом… Шаги долетали до него прямо с улицы, через окно. Он посмотрел: во мраке спешным шагом к Замку направлялось войско. Им командовал офицер с обнажённой саблей.
Волосы на его голове задвигались, кровь ударила в лицо, никого не было, кто бы привёл его в себя и задержал; Франек почувствовал это желание соединиться со своими, которому противостоять было невозможно. Он насторожил уши. Громыхнул пушечный залп со стороны цитадели, над замком засветилась пущенная для знака ракета.
– Там, может, убивают наших братьев, – воскликнул он, – а я тут немой, бездушный, буду бездеятельным свидетелем резни… О! Нет! Никогда! К своим! В ряды!
До него долетал всё более выразительный крик, безумный, вызывающий, это безоружный народ начинал битву с железом. Франек, не задумываясь ни над чем, схватил шапку, трость и заковылял по лестнице, с горячей головой, бессознательный, из последних сил, чтобы как можно скорее попасть на предзамковую площадь, где он чувствовал, снова готовился какой-то героический бой безоружных с дикой массой.
На улице он встретился с бегущими отовсюду и направляющимися к замку людьми; челядь из мастерских, падёнщики в передниках, женщины с распущенными волосами, старцы, дети… Всё это, как бы призванное на смерть, с готовностью на неё летело, восклицая:
– Русские убивают наших!
Как всегда в минуты такой опасности народ, вместо того чтобы рассеяться, сосредотачивался, сбегался, мчался толпой туда, где она была самой большой. Цирюльник заметил Франка, который его осматривал.
– Ради Бога! А вы тут что делаете?
– Иду туда, куда все идут! Не могу, не выдержу! Не говорите ничего! Если бы были заперты двери, я выскочил бы в окно… это сверх моих сил. Ведите меня, но пойдём, помогите мне, но не держите, это напрасно… там наши погибают, там и нам нужно умереть. Пойдём к своим, встанем в ряды и грудь обнажённую подставим… Пойдём!
Остолбеневший на мгновение цирюльник с уважением поддался этой вспышке чувства, подал руку калеке и они пошли.
От угла Святояньской улицы они увидели развёрнутые войска на площади и играющих барабанщиков, а напротив огромные толпы людей, которые со всех сторон пробивались на эту площадь кровавой экзекуции.
Франек со своим товарищем, проталкиваясь под стенами, добрались до угла Подвала и Сенаторской; но бедный юноша слишком верил своим силам: не мог уже идти дальше; добравшись до стены, опёрся на неё, поглядывая безумными глазами на шеренгу русских, которые стояли в готовности ударить на детей, на старцев и женщин.
В эту минуту среди окружающего шума, который всё усиливался, с крестом во главе вышли через Сенаторскую ксендзы капуцины и с образом Спасителя, как щитом, встали против убийц. Франек, заметив, что войска целяться в людей, поднял сжатый кулак, и невольно его глаза обратились на окна Анны, в которых, несмотря на мрак, различил её бледное лицо.
В эти минуты разлетелся дикий крик массы, как бы рычание зверей, которые после долго сидения в клетке наконец бросаются на жертву.
Сухой выстрел упал в толпу, всё более густо скапливающуюся.
Устрашённый товарищ Франка немного отступил к Подвалу, напрасно желая его потянуть за собой, молодой человек стоял камнем на месте. От этой солидарности в героическом мученичестве его нельзя было оторвать. Лицо его горело святым огнём, рука, несколько месяцем неподвижная, первый раз поднялась, сжалась в кулак и