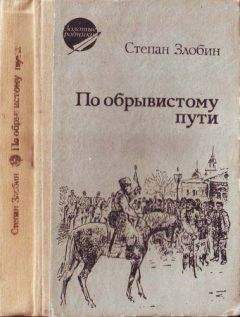— Да я не из тех…
— Я и знаю. Ты ведь из тех, которые за рабочую массу? Ну вот те и масса! «Спаси, господи, люди твоя. Победу благоверному императору!..»
Аночка удивленно взглянула на бойкую в злости собеседницу.
— Ладно, давай угощаться. Я богатая стала, самовар завела! Нащеплю лучины, попьем…
Вдвоём они поставили самовар. Пока он грелся, Манька сама рассказывала о своей ссоре с бывшей подругою и её сожителем, о том, как пришлось ей покинуть фабрику. И за чаем все не могла уняться, отстать все от той же темы. Её боль из-за того, что полиция обошла рабочих, была ещё сильнее, чем боль Аночки.
— Затменье на всех нашло, как ослепли! — говорила она.
— Понемногу очнутся, поймут, — обнадежила Аночка.
— Будить людей надо, Анюта! Сами они не проснутся. Мне бы сейчас ливорвер! — повторила Манька, оттолкнув чашку с чаем.
— А что бы ты сделала? Лизавету стрелять пошла бы? — с насмешкой спросила Аночка.
— Сама-то ты дура! — вдруг тихо вздохнула Маня. — Кто дал бы, тот указал бы мне, на кого выходить. — Она вдруг понизила голос до шепота, хотя в квартире не было никого, и до этого она говорила не опасаясь, но эти слова, как заветные, из самой глубины души, она выдохнула без звука: — Партия есть такая, которая за стрельбу. Я бы в неё подалась! Ты из ней никого не знаешь? — спросила она, заглядывая Аночке в глаза.
— Не знаю, — сказала Аночка. — И не нужно это совсем. Заводами целыми подниматься надо, а у вас на заводах полиция хороводит…
Манька составила к стороне посуду, остатки еды и опять взялась за свои цветы.
— Не везде на заводах полиция, — сказала Манька. — Есть такие хорошие люди! Зайди в воскресенье ко мне, к вечерку. Я одного позову — потолкуешь, увидишь.
— В воскресенье? — беспокойно переспросила Аночка. — А сегодня у нас…
— Нынче вторник. А тебе надо раньше? Да? — вдруг догадалась Маня. — Ну, так в четверг. Я сегодня Сашу сходить попрошу да позвать того человека… хорошего человека… А ты мне скажи по совести, как подружке, чего добиваешься. Саша ведь свой. Он сразу тому передаст обо всём, что надо… Что зря-то ходить!
Аночка рассказала ей о полученном от Комитета землячеств поручении. Маня слушала, нанизывая на проволоку шуршащие лепестки.
— Так, стало, и ты согласна, что надо людей-то будить?! — увлеченно воскликнула Манька. — Стало, права я? Будить?! — в волнении вскричала она, даже оставив своё занятие.
— Да не пальбой будить, поняла? — возразила Аночка.
— А ты принесла листочки? — таинственным шепотом вдруг спросила Маня, держа в руках связку зеленых крахмальных листочков искусственной розы.
— Какие листочки? — осторожно спросила Аночка. Ей показалось, что Маня сходит с ума от своих лепестков и листочков.
— Ну, про это самое дело листочки. Ведь на собранья рабочих не соберешь! А надо листки, чтобы все прочитали, какого числа, где начнется, и все честь по чести. А без листков тут нельзя. Ты своим студентикам объясни, что листочки нужны, а Саша к тому человеку сходит, ему обо всём расскажет, а ты ко мне завтра приди вечерком. И попросту приходи, не рядись, как на святки. Так, разве платочек накинь. Скажи, что пришла заказать на шляпку цветы для модистки…
Аночке было смертельно стыдно перед товарищами и перед самою собой. Вот тебе и рабочие связи!
Оставалась надежда ещё на «того человека», на «настоящего», о котором с такою надеждою говорила Маня, но этот, должно быть, был не таков, как Федот, который в прошлом году вел стенку на полицейских. Этот был, вероятно, из робких. Он не решится выступить прямо, с открытым призывом: «Пошли, девки-бабы!» Он мог лишь раздать у себя «листочки»! «Эх, Федот, Федот, до чего ты не тот!» — вздохнула Аночка.
Пользуясь наступавшими сумерками и отсутствием дежурного дворника у ворот, Аночка проскользнула домой никем не замеченной.
Юля Баграмова, поджидая Аночку, коротала время с Клавусей и деспотичным Иваном.
— Ты с каникул приехала? Привезла мне гостинчик? — спросила Юлию Аночка, принимая несколько детский тон, каким говорила с отцом.
Юля смутилась.
— Иван Петрович мне написал, что хочет приехать в Москву, побывать в хирургических клиниках. Я решила остаться. Много работала над переводом французской книги. А вот и каникулы кончились — он не приехал, — развела руками Юля.
— Ты живёшь всё по-прежнему у Лупягиных?
— Да, у тети Глафиры Кирилловны. Очень смешная особа, но добрая — прелесть!
— А муж — полицейский, — с ненавистью неожиданно для себя выпалила Аночка.
— Что ты городишь?! — вспыхнула Юля.
— Аночка, что ты! Платон Христофорыч самых гуманных взглядов. Юрик с ним близко знаком, у него учился! — вмешалась Клавуся.
— Иван Петрович мой тоже в каждом письме посылает ему поклон. Это какие-то грязные сплетни! — в негодовании воскликнула Юля.
— Не знаю. Я от рабочих слыхала, что он к Зубатову нанялся, затемняет рабочим наукой мозги. Говорят, что рабочие ищут на него потяжеле да крепче лупягу…
— Гос-споди боже, какую лупягу?! — в искреннем ужасе отшатнулась Клавуся от незнакомого, страшного слова. — Какую лупягу?!
— Какую? Которой лупят. Это Антон придумал «лупягу», ткач такой с Пресни, Антон. Рабочие говорят, что, мол, барин, должно быть, в жандармах служит!..
— Гос-споди, если бы знал Платон Христофорович! — воскликнула Юля. — Аночка, ты же сама его знаешь! Разве он похож на жандарма?!
— А ты ему расскажи, расскажи! Если он честный профессор, пусть бросит эти жандармские лекции, а если не бросит, то лучше тебе из этой семейки уехать, — сказала Аночка.
— От тёти?! Но это её оскорбит! — возразила Юлия Николаевна.
— Как хочешь, Юля. Если ты не поймешь сама, то я напишу Ивану Петровичу, — пригрозила Аночка. — Ты понимаешь, что, может быть, даже на этих днях выйдет листовка против зубатовцев и в ней будет сказано, что профессор Лупягин служит жандармам.
— Но это же клевета! — воскликнула возмущённая Клавуся. — Ты, Аночка, должна отстоять честное имя от грязи. Это священный долг! Представьте себе, профессор Лупягин не так давно встретился с Юриком, звал его тоже прочесть несколько лекций рабочим. Значит, если бы Юрик взялся…
— Юрий Дмитриевич?! — резко прервала Аночка. — Если бы он взялся, то ваша фамилия была бы в листовке рядом с Лупягиным, и я бы уехала на другую квартиру, а с вами перестали бы здороваться честные люди…
— Ты меня так напугала, Аночка! Как хорошо, что ты обо всём услыхала! Я побегу скажу тёте, — заторопилась Юлия Николаевна. — Ты там попроси, пожалуйста, от кого зависит, чтобы они подождали с листовкой, — умоляюще обратилась она к Аночке, уверенная, что Аночка знает всех тех, кто пишет и множит листовки…
1
Наблюдая студенческое волнение и памятуя февральские и мартовские дни прошлого года, полиция неистовствовала во всех университетских городах. В Киеве, Харькове, Екатеринославе, Петербурге, в Казани, в Ярославле — везде шли демонстрации, избиения, аресты. В Москве каждую ночь шли сотни обысков по квартирам, производились десятки арестов.
Аночка то и дело приходила домой в поздний час, и когда заспанная Ивановна отпирала ей дверь, она неизменно видела высунувшееся из двери столовой испуганное лицо Клавуси, окружённое папильотками.
— Много учитесь, барышня, — несколько раз говорил Аночке дворник, выходя отпирать ворота, но успокаивался на полученном за труды гривеннике.
Подготовка к большой сходке требовала немало сил. Нужно было позаботиться о прокламациях, о предварительной записи дельных и смелых ораторов. Уже бесспорным казалось мнение о том, что в этот день должны выйти на улицу фабрики и заводы и с их поддержкой студенчество обретет настоящую силу.
— Мы должны от нашего имени выдвинуть требование в поддержку рабочего класса: восьмичасовой рабочий день и свободу рабочих союзов и стачек, — сказала Аночка. — Это докажет рабочим, что мы идем на борьбу за общие интересы.
Вокруг предложения Аночки поднялся спор, кто-то назвал это предложение лицемерием и заманиванием рабочих в свой лагерь. Аночка вспыхнула.
— Если мы напишем это требование на нашем студенческом знамени и с этим требованием выйдем на улицу, — в наших условиях это уже борьба действием. Мы никого не «заманиваем», а становимся сами в ряды единой борьбы, в которой первое место принадлежит рабочим», — с жаром сказала Аночка. — Стыдно должно быть тем господам, которые думают, что не обязаны стоять до конца за дело рабочих. Не забывайте, что мы учимся на их, на рабочие деньги!
Противник её что-то жалобно забормотал, уверяя, что его не так поняли.
Когда неделю спустя в узком кругу возник разговор, что одна из женщин должна выступить от социал-демократов, как-то само собою возникло имя Анечки. Ей сказали об этом. Она замахала руками.