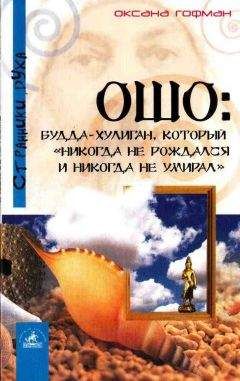отчим домом и прежней их жизнью, все еще дорогой сердцу. Он умел быть понятым и доступным каждому, случалось, говорил ослабевшему от многодневного сидения и начинавшему утрачивать способность к совершенству:
— Силы, которыми обладает Будда, обкновенны, тут нет никакого чуда, чудо обычно идет от нарушения извечного порядка и противно природе. Сверхъестественные способности Будды в сущности не имеют отдельной от природы силы, они часть ее, ею подвигаются и подводятся к пониманию. Истинно говорю: человеку так же свойственно выявлять свои способности, как птице летать, а рыбе плавать. Дерзайте, о, монахи, и да будет свет созерцания с вами!
Но бывало, и эти слова не помогали, и человек, обжегши душу о смущение и ощутив колебание, точно бы он уже ни на что не способен, а лишь на жалкое земное существование без одоления плохой кармы, не мог снова обрести себя, и тогда Татхагата негромко, точно бы с сомнением в голосе, говорил:
— Те, кто полагает, будто Учитель знает все и все понимает и обладает безграничной мощью провидения, те люди не догадываются, кто я и зачем я?..
Он говорил так, и человек успокаивался, возникала мысль, коль скоро и Просветленный, случается, пребывает в состоянии сердечного напряжения, то уж мне-то отчего бы не почувствовать на сердце утесненность?.. Кажется, именно через эту мысль возникало между людьми единящее их: та схожесть, которая сделалась неприятна монахам, скоро была отодвинута ими, появилась другая схожесть, она не отстраняла людей друг от друга, не была никому в неприятие, выражалась в доброте, что открылась в человеке, в ней ничего особенного не обозначалось, она и раньше не чуждалась их, все же, отметив ее, человек заметно оживлялся, и свет от него упадал на другого… И всяк отмечал ее у соседа, а не у одного себя, и становился пуще прежнего светел ликом и участлив к ближнему. И не только Сарипутта или Упали, для кого проявлять чувство добросердечия хотя бы и к поникшей травинке на тропе, уже давно привычно, а и внешне суровые Магаллана и Коссана поддались этому чувству, и в лицах у них промелькивала добрая улыбка, они отворачивались и старались, чтобы никто не заметил перемены в них, но отринуть ее не хотели. Та перемена по душе им. Подвинутая Татхагатой, она осветила их, приблизила к совершенству. В чем оно?.. Однажды Просветленный, подведя монахов к бамбуковому дереву, взял в руки пригоршню листьев и сказал:
— Где мои ученики, больше листьев, на дереве или в моей ладони?
— На дереве.
— Истинно так. Листья в руке — это те знания, про которые я поведал вам. Но я многого не поведал, я полагал, что от этого не было бы пользы, никого не приблизило бы к высшей цели. О чем же я поведал вам? О том, где источник страдания и где путь, что ведет к прекращению его. Зная это, можно ли приблизиться к совершенству?
Он спрашивал и не отвечал, точно бы хотел сказать, что ученики, каждый из них, должны были пойти своей дорогой. И это принялось монахами как благо, они в освобожденности и неутесненности душевных устремлений увидели возможность отыскать в себе небесный свет, что зажегся в Татхагате и сделал его зримым отовсюду.
То, обретавшееся в Маре и чему вряд ли можно отыскать название, но что составляло сущность его, хотя и не всю, а лишь обозначаемую в действиях и в устремленности к вечному изменению, делалось со временем беспокойней, и он, чаще бесформенный и огромный, похожий на разодранное ветром облако, а нередко и воплотившись в него, почему оно даже смертному, обратившему на него внимание, казалось не чуждым жизни, вдруг да и начинало колыхаться, а это можно было принять за дыхание, так вот, и сам Мара, утрачивая твердость и привычную горделивость, которая помогала не признавать ничьей над собой власти, не знал, откуда в нем тревога?.. Впрочем, спустя время он догадался, что все худшее для него ныне исходит от земли, там появился Будда, он в человечьем обличье, смел и слен ум его, ощущение всесветности, в нем растворившееся и обычно присущее небожителям, подвигало Просветленного к порогу державных миров, а за ними, коль скоро он перейдет в Нирвану, виделась еще большая мощь и необратимость. Это и волновало Мару, чем сильнее будет Учение Благословенного, тем меньше станет его, Мары, власть и над людьми, и над теми, кто обитает в иных мирах. Луна сменялась луной, солнце скользило по кругу, и лучи от него упадали на землю, грея то слабо, то горячо, и годы накручивались на веретено времени, а беспокойство Мары не уменьшалось, напротив, усиливалось, ведь приближался день, когда Просветленный повернется ликом к Нирване. Нет, он, Мара, не мог допустить этого, он должен помешать умиротворенности, что движет Татхагатой, надо сломать ее, вселить в него томление, и тогда душа Владыки благого Колеса ослабнет и не будет так чиста… Мара понимал, нелегко добиться того, чтобы смута потревожила Татхагату, однако не изменил своего решения. В этом, почти земном упрямстве было не только от Мары, а и от сущности, его окружающей, она как бы пропиталась им, духом его и все в ней дышало этой страстью, и, когда он замышлял что-либо против Татхагаты, то замышлял как бы и от окружающей его сущности, отчего казалось, что это необходимо не ему одному. Привыкнув разрушать, и находя в этом удовольствие, он не смирялся с тем, что хотя бы и слабо противостояло разрушению, которое по сути есть жизнь: она рождается во чреве матери, чтоы спустя время оттолкнуть его с острым, почти враждебным неприятием. Потому-то Мара не мог принять Дхамму и сделался ярым ее противником. Он знал, что совсем ослабнет, если Татхагата незапятнанным войдет в Нирвану, и стремился помешать этому. Он уже давно отметил, с какой неприязнью относился к Благословенному Девадатта и, понимая, что толкает монаха к неприятию Учителя, старался усилить в нем то, что рождено завистью и невозможностью в чем-либо сравниться с Татхагатой, и это оказалось не так уж сложно. В отличие от Джанги, сильно постаревшего, едва передвигающего ноги, все же с неостывающей страстью в глазах, обращенной к утверждению собственной сущности, двоюродный брат Просветленного не понимал, что двигало его действиями, был глубоко чужд небесной пространственности, в нем не возжигались удивительные чувства, которые как бы не от сердечной сути, а подарены небесами, когда и не скажешь сразу: кто ты на самом деле и отчего на сердце так объемно и широко, не