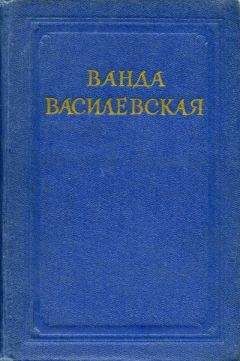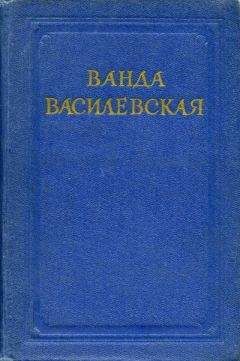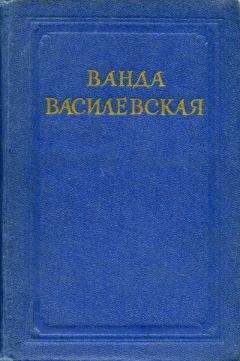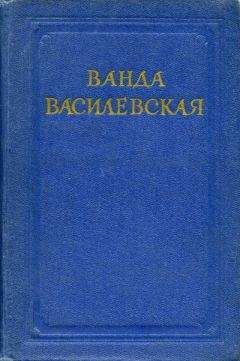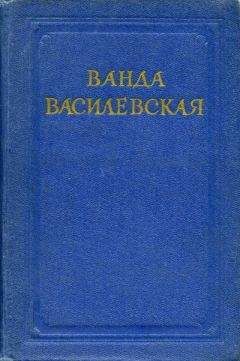Но опять, как в тот момент, когда она, наконец, решилась идти сюда, Ядвига услышала укоризненный голос совести: «Какое право имею я бежать от того, что было, от того, что есть? Нужно прямо смотреть в глаза правде. Ведь жить я буду здесь, а не там. Работать, встречаться придется мне с людьми, которые жили здесь. И воспитывать я буду не только детей, привезенных оттуда, но и детей, которые росли здесь, под тенью нависшей над городом черной тучи, в дыму печей смерти. Может быть, у меня будут дети, которые и сами побывали в Майданеке, чудом спаслись оттуда. Что видели их глаза? Что я отвечу им, как научу их тому, что жизнь прекрасна, если не буду знать того, что видели они? Нет, здесь необходимо было побывать. Это необходимо было увидеть».
…Обратный путь. Еще раз перейти это поле. Хрустит, скрежещет почва под ногами. Пустота и холод в сердце, словно и в нем раскинулось страшное поле смерти.
«Мне отмщение, и аз воздам», — сказано в евангелии. Но тут смешна сама мысль о мести и воздаянии. Многие из нас говорили, много раз говорили: «Мы отплатим с лихвой»… Но как отплатить за это? Обычное человеческое чувство — надежда отплатить злодеям с лихвой — отнято у нас. Мы повторяли это сотни раз, не понимая, что говорим, и это оказалось ложью. Воздаяния не может быть. Чем бы могла быть эта «лихва»?
Вспомнились какие-то с детства навязшие в ушах притчи о мести и прощении. Но тут не могло быть ни мести, ни прощения.
Что значило бы — простить? Это значило бы примириться с морем человеческого пепла, с печами, которые несколько лет днем и ночью извергали густой, жирный дым. Примириться с фактом, что этот черный дым был не только смертью миллионов людей, но навсегда отравил — кто знает сколько миллионов живущих сердец.
Нет, не могло быть речи о прощении.
И в то же время какими детскими, смешными, нереальными были мысли о мести! Какая месть могла отплатить за то, что здесь происходило!..
Перестала хрустеть почва. Это уже была обыкновенная, добрая, ласковая земля. Хотелось стать на колени и поцеловать эту землю только за то, что она была обыкновенной землей, на которой могут расти цветы и травы, которая не пропитана кровью и не насыщена пеплом.
Но вместе с тем, уходя отсюда, она болезненно ощущала пустоту, которая осталась после утраты простого, первобытного человеческого чувства — надежды на месть.
Да, этого удовлетворения никто не получит. Ни те, кто потерял здесь своих близких, ни те, для кого каждый, кто погиб в этой стране, является близким.
Можно и должно одолеть врага. Можно и должно наказать поджигателей войны и военных преступников, казнить палачей, чтобы другие боялись совершать такие злодеяния. Можно и должно противостоять смерти и ужасу, превратив Польшу в счастливую страну счастливых людей. Но самая мысль о мести казалась мелкой перед этим полем золы. Перед этими печами, перед этим складом, заваленным миллионами ботинок и башмачков.
Ядвига ехала в дребезжащей машине, чувствуя на лице дуновение свежего, но еще теплого ветра.
В ста километрах отсюда на запад еще дымятся печи уничтожения. Еще бродят за колючей проволокой люди-скелеты, люди-призраки. Туда уже идут войска, несущие жизнь, воскресение из мертвых, свободу! И тот, кто еще полагает, что они несут месть, — ошибается. Солдаты, которых она встретила в бараке, теперь уже знают — нет и не может быть мести. Не может быть воздаяния.
И, глядя на красные звезды, на знакомую, милую сердцу форму, она вдруг подумала: «Именно это и хорошо, что они не армия мести, не могут быть армией мести, что это армия освободителей и несет с собой не месть, а свободу».
Волной ударил в лицо многоголосый, смешанный шум города. И вдруг Ядвига остро, ясно почувствовала — здесь был другой мир. Кошмаром, злым сном казалось то, что она оставила позади себя. Она жадно, как человек, вышедший из душного подземелья, вдохнула в легкие воздух. Как можно было сдаться, как можно было забыть хотя бы на минуту? Была ведь еще земля — непокоренная, борющаяся, сегодня освобожденная — о ней говорили отряды, тянущиеся к городу из лесов, болот, со всех сторон. Тысячи, тысячи людей… Добрые руки, дающие кусок хлеба беглому узнику. Простые женщины, с риском для собственной жизни, в страхе длинных ночей и дней прячущие советского бойца и разыскиваемого гестапо еврея… Это же здесь, недалеко, была та Замойщина, где героически боролся крестьянин, недалеко отсюда были парчевские леса, колыбель партизанских отрядов. Вопреки дымам Майданека, вставала из огня и пожарищ разрывающая кандалы, бесстрашная, непокоренная Польша. Она была именно такой, как думалось о ней там, в Москве, когда лишь обрывки сведений проникали через линию фронта.
С глухим грохотом шли по улицам орудия. Ядвига проводила их взглядом. Четко отбивали шаг тысячи ног. Толпы стояли на тротуарах, глядя на марширующих. Какая-то девушка вдруг бросила под ноги офицера, идущего во главе одной из колонн, несколько последних георгин. Он улыбнулся и поднял этот пестрый, веселый, неожиданно-яркий букет. И так и пошел во главе колонны — с георгинами в руках.
«Марцысь уже, наверно, ждет меня», — вдруг вспомнила Ядвига. Неужели она виделась с Марцысем сегодня утром? Ей казалось, что с тех пор прошло бог знает сколько времени. Между утром и этим часом пролег Майданек.
Она прочла на углу название улицы. Да, это здесь. Но Марцыся еще не было в условленном месте. Она прогулялась по тротуару. Ноги ее болели, во всем теле чувствовалась усталость, как после тяжкой работы. И даже не очень хотелось видеть кого-нибудь, — забиться бы в уголок и привести кое-как в порядок взбудораженные мысли. Но где в этом сумасшедшем городе найдешь такой уголок? И потом — глупо думать, что достаточно нескольких часов спокойного размышления. Нет, нет! Этот хруст, этот скрежет угольков под ногами надо носить в себе всю жизнь. Тут нечего «приводить в ясность», не на чем «успокоиться» — она видела то, чего никогда не должны видеть человеческие глаза. И тут уж ничего не поделаешь. Это навсегда останется с нею.
Назначенное Марцысем время давно миновало, а его все не было — зря она боялась опоздать. Поднявшийся ветер обдавал осенним холодом. Глупо было уславливаться о встрече на улице. Ладно, она пройдет еще раз до угла и обратно. За это время он, конечно, явится.
Но она прошла это расстояние не меньше десяти раз, а мальчика все не было.
Не может быть, чтобы он забыл. Что-то его задержало. Но ведь мог же он дать ей как-нибудь знать, чтоб она не топталась, как дура, на тротуаре!
Она ходила здесь уже целый час, дольше ожидать было бы глупо. Она еще раз осмотрелась и пошла, пытаясь припомнить дорогу к дому, где жил Стефек, и вдруг увидела у тротуара открытую машину, в которую садился Марцысь.
— Марцысь!
Она вскрикнула так громко, что прохожие оглянулись.
— Ну, знаешь, нельзя сказать, чтоб ты был очень аккуратен… Целый час шатаюсь по улице…
Она оборвала, охваченная внезапным страхом, взглянув на его лицо.
— Что случилось?
— Владек погиб.
— Как? Что ты болтаешь? Ведь еще утром…
— Убит полтора часа тому назад, Я сейчас туда еду. Раньше никак не мог достать машину.
— Я еду с тобой, — сказала она, еще не отдавая себе отчета в услышанном.
Машина рванулась, Ядвигу отбросило на сидение.
— Кто его убил? Ведь он был здесь, в Люблине?
— Вот именно, здесь, в Люблине. Было нападение на вербовочный пункт. Убили капитана, его и еще кого-то. Бросили гранаты в комнату.
— Кто же мог? — ошеломленно спросила она.
— Не знаете кто? Свои, свои…
Ядвига умолкла. Какой страшный, какой невыносимо страшный день… Она живо вспомнила госпожу Роек, как та провожала ее из Москвы: «Только уж, пожалуйста, дитя мое, — говорила она, — сделай это для меня, повидайся с моими мальчиками, посмотри, как там и что… Марцысь пишет, что все в порядке, но ты же знаешь, какие они… Так уж я тебя прошу, не забудь — узнай, где они. А то ты как начнешь бегать по всем своим делам… А так, пока они в этом Люблине, я бы уж была спокойна».
И вот, в Люблине…
Марцысь сидел, наклонясь всем телом вперед, глядя прямо перед собой, будто хотел ускорить ход машины. Молодой шофер гнал, как на пожар. Но они то и дело попадали на улицы, забитые проходящими частями.
— Выезжай за город, объедем стороной… — сквозь зубы бросил Марцысь.
Машина запрыгала по немощеной, ухабистой улице.
— Далеко еще? — спросила Ядвига, чтобы нарушить становящееся невыносимым молчание.
— Сейчас приедем.
Это было не то предместье, не то какой-то пригородный поселок. Милиционер с повязкой на рукаве поднял руку, останавливая машину.
— Куда?
— Поезжай, поезжай! — нетерпеливо крикнул Марцысь шоферу, сунув милиционеру пропуск. Тот махнул рукой.