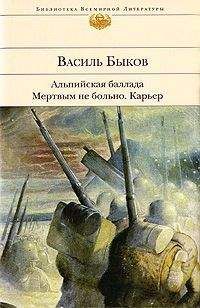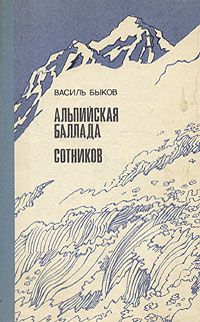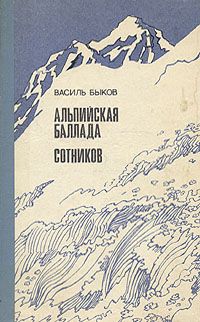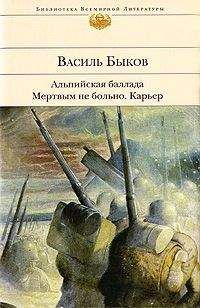маузером. Будто Сотников начал вынимать его из кобуры, неосторожно повернул в сторону и сломал
ствол, который, как оказалось, был не стальной, а оловянный, как в пугаче. Сотникова охватил испуг, хотя
в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что нынешним или, возможно, курсантом -
действие почему-то происходило в ружейном парке в училище. Он стоял возле пирамиды с оружием и не
знал, как быть: с минуты на минуту здесь должен был появиться отец. Сотников бросился к пирамиде, но
там не оказалось ни одного незанятого места, во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими
руками рванул жестяную дверцу печки и сунул пистолет в черную, с окурками дыру топки.
В следующее мгновение там засветился огонь - раскаленные пылающие уголья, в которых как будто
плавилось что-то яркое, и он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать. А рядом
стоял отец. Но Сотников-старший даже не вспомнил про маузер, хотя у сына было такое ощущение, что
он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустился перед топкой на корточки и
вроде сожалеюще сказал шепелявым, старческим голосом: «Был огонь, и была высшая справедливость
на свете...»
Сотникову показалось, что это из библии - толстая ее книга в черном тисненом переплете когда-то
лежала на материнском комоде, мальчишкой он иногда листал ее желтые, источавшие особенный,
обветшало-книжный запах страницы. Теперь ему было удивительно слышать, как библию цитировал
отец, который не верил в бога и открыто не любил попов.
Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке, сознание Сотникова опять погрузилось во мрак.
Наверно, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то невнятные звуки:
стук, шорох соломы и тихий старческий голос. Когда же вернулось ощущение реальности. Сотников
понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго, мучительно откашливался, все
154
размышляя, что бы мог значить этот его сон. И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело
щемящее воспоминание о его давнем, далеком детстве...
Маузер не странная причуда этого сна, он действительно хранился у старого Сотникова, бывшего
краскома, а до того - кавалерийского поручика с двумя «Георгиями» на широкой груди - офицерское фото
отца он не раз видел в красивой, замысловато расписанной павлинами маминой шкатулке. Иногда по
праздникам отец доставал из комода свой пистолет, и тогда сыну было позволено придержать его за
желтую деревянную кобуру, чтобы отец мог вытянуть из нее маузер - вынуть его самому отцу было
неловко, его искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни
мальчишки минуты, но потом он мог лишь наблюдать, как отец протирает оружие - ни разу ему не было
разрешено даже поиграть с пистолетом. «С оружием и наградами играть возбраняется», - говорил
Сотников-старший, и мальчик не упрямился, не просил. Слово отца в семье было законом, в большом и
в малом дома царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным: отец его пользовался в
городке известностью и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья
и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов.
Вороненый, в деревянной кобуре маузер был затаенной мечтой Сотникова-младшего, но напрасно
было просить его также и у матери.
И тогда мальчишка решился взять пистолет сам.
Как-то, проснувшись утром, он услышал глухую тишину в доме. Отец, наверно, куда-то ушел из
каморки, откуда по дому разносилась привычная разноголосица часовых механизмов; мать, он уже знал,
отправилась рано в церковь - над городом плыл колокольный перезвон утренней службы.
Торопливо натянув коротенькие, до коленей, штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он
скоренько прошмыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комода был плотно задвинут, но в замочной
скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один
оборот и вынул скользкую, лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку блестела
знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть: «Красному комэску А. Сотникову от
Реввоенсовета Кавармии». Первое же прикосновение к оправленной деревом рукоятке взбудоражило
мальчика. Руки его уверенно управились с защелкой, и вот уже весь маузер туго, но податливо вышел из
кобуры, сдержанно и таинственно засияв своими воронеными частями. Никогда прежде не испытанное
тревожно-волнующее чувство охватило мальчишку, минуту он изучал пистолет - подвинул прицел,
попытался отвести затвор, заглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, конечно, было
прицелиться. Только не успел он как следует обхватить рукоятку и пальцем нащупать спуск, как
совершенно неожиданно и непонятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно грохнуло выстрелом.
Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно-острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу
катилась гильза, под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источенная жучком
щепка с темным и косым следом пули.
Поняв наконец, что случилось, он сунул пистолет в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти
места, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе, кинулась к сыну с расспросами, и он
рассказал все как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень
испугалась за него, даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен
во всем признаться отцу.
Решиться на это признание было не просто. Пока набирался решимости, минул час или больше, и
наконец сам не свой он открыл дверь отцовской каморки.
Отец работал. Как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в
часовом механизме. Правая его рука в черной перчатке бессильно покоилась на коленях, а левая ловко
колупала, винтила, разбирала и складывала разные маленькие блестящие штучки, из которых состояли
часы. На стенах не в лад друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых,
размалеванных по циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный
накануне из райкома деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но,
как всегда безошибочно узнав его, совершенно некстати теперь спросил бодрым голосом:
- Ну как дела, молодой человек? Одолел мариниста?
Мальчик проглотил неожиданно подскочивший к горлу комок - накануне он принялся читать
Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном дедовском сундуке, уже мало что осталось им
непрочитанного, разве что собрание сочинений Писемского и несколько разрозненных томов
Станюковича, один из которых третьего дня и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг, и он сказал:
- Папа, я брал твой маузер.
Отец как-то странно мотнул головой, отложил пинцет, привычным движением руки снял очки и строго
посмотрел на сына.
- Кто разрешил?
- Никто. И это... Он выстрелил, - упавшим голосом произнес сын.
Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким
чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват, и готов был
принять самую беспощадную кару.
Вскоре отец вернулся.
- Ты, щенок! - сказал он с порога. - Какое ты имел право без разрешения притрагиваться к боевому
оружию? Как ты посмел по-воровски лезть в комод?
155
Отец долго и нещадно отчитывал его - и за неосторожность, и за выстрел, который мог причинить
несчастье, и больше всего за тайное его своеволие.
- Единственное, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя спасает. Понял?