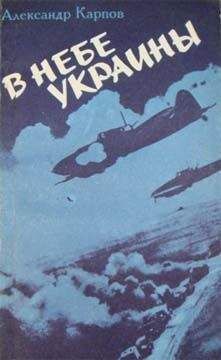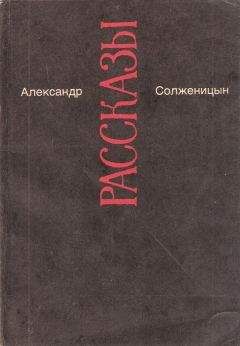Сброшены бомбы. Стоянки заволокло черным покрывалом дыма и гари. Разворачиваем самолеты на повторный заход. Вражеские зенитки неистовствуют — слева, сзади, впереди — несметное количество зенитных взрывов. Маневрируем, стараясь выбраться из этого опасного лабиринта разрывов. Без особого труда находим цель и атакуем из пушек и пулеметов. По голосу ведущего, который изредка доносится по радио чувствуется, что он доволен исходом атаки. Да и фейерверк, устроенный штурмовиками, говорит сам за себя.
Вот на какой-то миг «Юнкерс-88» появляется в прицеле, и Хитали не упускает его, дав очередь из пушек и пулеметов вдоль крыльев. Бомбардировщик вспыхнул и превратился в горящий факел.
Но вдруг происходит то, чего мы меньше всего ожидали: немцы переносят вперед заградительный огонь и подкарауливают нас на выходе из атаки. Вскоре вся группа штурмовиков попадает под губительный огонь зениток.
Впереди на высоте полета нашей группы сплошной огненный вал. Сворачивать уже поздно, да и вряд ли целесообразно. Остается одно: прижаться к земле и попытаться проскочить через это огненное кольцо.
Неимоверным напряжением нервов и мысли пытаемся избежать прямого попадания. Хочется поторопить время, скорее миновать опасную зону и с жадностью, взахлеб глотнув без гари чистый воздух, выдохнуть: «Пронесло!»
В кабине непривычный запах гари. Это от зенитных разрывов. Копоть и гарь лезут в нос, душат, выжимают из глаз слезы. Удары разрывов зенитных снарядов настолько часты, что самолет вздрагивает, как в лихорадке, ручка управления вырывается из рук, но наши атаки продолжаются. Беспрерывно несутся вниз реактивные снаряды, и увеличивается на вражеском аэродроме число пожаров. Еще одно усилие — и мы вне досягаемости зениток.
Наконец вся группа, правда, несколько разрозненная, выскакивает из кольца. Не попал ли кто под удар зениток? От этой мысли не так просто отделаться, если видишь, что боевой порядок при отходе от цели нарушен.
В синем небе сверкает раскаленное добела солнце. Я не спускаю глаз с ведущего, который повел себя как-то странно. Хитали не прижимается к земле, не собирает группу штурмовиков в единый кулак, не переходит на бреющий полет. Набирая высоту, он словно дразнит немецкие зенитки, как бы продолжая вести с ними молчаливый поединок.
Спешу приблизиться к ведущему. Слишком рискованно работает он рулями управления. Запрашиваю по радио. В ответ — молчание. Самолет Хитали с креном идет к земле. Так и в землю врезаться недолго!
Наконец догадываюсь: машина ведущего повреждена! А что с Хитали? Не ранен ли?
Слежу за самолетом Хитали. Если раньше меня всегда восхищал его полет, тонкое чутье земли, когда он мог пройти над любой ее точкой на метровой высоте, то теперь чувствую тревогу.
«Ильюшин» хотя и идет по прямой, но кажется, что он еле держится в воздухе. Видно, что-то с самолетом, или с самим летчиком. От волнения у меня горит лицо. Пытаюсь восстановить в памяти весь полет, преодоление заградительного зенитного огня, бесконечные довороты влево, вправо… Не сорвется ли в штопор?
Лишь только сел, как сразу заметил необычное оживление на аэродроме — суетятся техники, мотористы. Все взоры прикованы к самолету Хиталишвили. А он все ходит по кругу, очевидно, не в силах зайти вдоль посадочных знаков.
Небо звенит от страшного гула мотора. Машина Хитали заходит на посадку с каким-то нервным подергиванием, делая неуклюжие поклоны земле, переваливаясь с крыла на крыло. Летчик «щупает» землю, очень резко работает сектором газа; надрывается и натужно ревет мотор.
На поле с микрофоном в руке стоит командир дивизии. Он что-то громко кричит, непрерывно дует в узкое отверстие сетки и машет рукой. Из пересохшего горла комдива раздаются еле слышимые команды.
— Ниже! Подводи ниже!
Наконец самолет сел, вернее, как-то по-вороньи упал. Все бросились к машине. Перегнав всех, карабкаюсь на плоскость, отталкиваю механика и с замиранием сердца дергаю рукой за фонарь кабины. Хитали уткнулся головой в приборную доску и, обхватив обеими руками ручку управления, прижал ее к животу. Стекло кабины забрызгано красными пятнами. Это кровь.
— Захар!
Хитали не подает никаких признаков жизни.
Снимаю с него шлемофон. Лицо окровавлено, неподвижно. Похоже, что он мертв. Осторожно вытаскиваем летчика из кабины и спускаем вниз по плоскости, где десятки рук подхватывают обмякшее тело.
— Ну, чего медлите! Скорее в санчасть! — кричит комдив. Он так стиснул пальцами планшет, что-то сразу хрустнул в нескольких местах.
Через четверть часа Захара доставили в санчасть.
— Состояние летчика тяжелое, — глухо сообщил нам врач. — Многоосколочные переломы костей лица, особенно пострадала верхняя челюсть. Травмированы глаза. Не исключено сотрясение мозга.
В эту ночь, несмотря на усталость, я не смог уснуть. Неужели Захар больше не сядет в самолет, не испытает всепоглощающей радости полета?
Утром тревога чуть свет сорвала нас с постели, Собрав нервы в кулак, вместо санчасти я бегом несся на аэродром. Освободился лишь вечером. Однако Захара уже увезли в госпиталь.
IXСентябрь выдался жарким. Нагретая за день земля не успевала остыть за ночь. Жара изнуряла. Многие страдали бессонницей.
С тех пор как отправили Хитали в Астрахань в госпиталь, прошло более двух недель. В голову лезли нерадостные мысли. Сможет ли Захар вновь летать на боевые задания?
Комиссар полка связался по телефону с госпиталем. На вопрос о состоянии летчика ему ответили: «Поврежденные ткани и костные осколки удалены. Летчик будет жить. Восстановлением зрения займемся позже». — «Вы считаете, что это удастся?» — спросил Выдрыч. — «Надеемся…»
Однако сомнения одолевали вновь и вновь. И все-таки комиссар старается внушить нам уверенность, что Хитали непременно поправится и скоро вернется в строй.
— Скажите ему, чтобы не спешил выписываться, — напутствовал он нас, когда отправлялись в госпиталь.
После разрушенного Сталинграда, который мы видели летом 1942 года, я был ошеломлен красотой и самобытностью Астрахани. Под солнечными лучами ослепительно сверкали купола кремля, в голубом небе спокойно парили белоснежные облака. Не верилось, что всего в ста километрах от города шла война. А здесь тишина, покой…
Не так просто оказалось найти госпиталь, а тем более добиться у начальства разрешения повидаться с товарищем. В санчасти все это было доступно, стоило лишь подтянуться на руках к окошку. Там достаточно одного жеста, чтобы узнать, как твой друг себя чувствует.
А здесь мы бродим под плотно зашторенными окнами. Проходя мимо полуоткрытой двери, я услышал сердитый голос дежурного врача.
— Ну что вы бродите, словно привидения?
Вперед вышел Пискунов. Размахивая от волнения планшетом, он начал объяснять:
— Дружка вот хотели навестить, да никак не найдем. Он летчик, понимаете, летчик… — и протянул пачку папирос.
Закурили. Врач, узнав, кого мы ищем, смягчился:
— Не время сейчас для свиданий. Приходите завтра с утра.
Однако видя нашу настойчивость, он согласился пустить нас сегодня. От него мы узнали, что Захар тяжко переживал слепоту. Безучастный ко всему, он часами лежал неподвижно, равнодушный к пище, к боли, к своему будущему.
— Психологическая депрессия, — объяснял врач, — Мне приходилось с этим уже встречаться. Изуродованные войной, вчера еще красивые люди вот так вдруг теряли веру в жизнь. К счастью, ваш друг — крепкий парень, он победит болезнь.
Входим в палату, оглядываемся по сторонам, ищем Захара.
Вот он! Худой, с острыми плечами, обтянутыми синим облезлым халатом, с забинтованной головой. Услышав наши голоса, Захар судорожно ловит рукой спинку кровати, пытается привстать. Волнуясь, он ищет наши руки, ласково ощупывает нас, гладит гимнастерки.
— Проклятые зенитки, — покачивает забинтованной головой Хитали. — Сколько бы за эти полмесяца можно было сделать вылетов! Так на тебе!
Бледное лицо его наполовину забинтовано, тяжелый непокорный чуб, косо упав на лоб, слегка прикрывает белую повязку, плотно охватившую глаза.
Это зрелище так потрясло нас, что мы притихли смущенные и подавленные. На лицах застыло выражение сострадания, боли и какой-то безотчетной вины.
Нестерпимо больно от сознания, что у этого парня, которому всего-навсего девятнадцать, война отняла свет, небо, оставив ему лишь безысходную тьму. Как-то не по себе: впервые приходится видеть Хитали беспомощным. Мы всегда знали его другим: сильным, деятельным, веселым.
Утомившись, Захар снова лег, крепко ухватившись рукой за спинку кровати. Наклонив голову в нашу сторону, он превратился весь в слух. Затем поднимает голову, поворачивается к окну, будто силится там что-то разглядеть. Он рассказывает, что ему сделали операцию, спрашивает о товарищах, интересуется, нет ли писем. Письмо мы привезли, но прочитать некому, оно написано на грузинском языке.