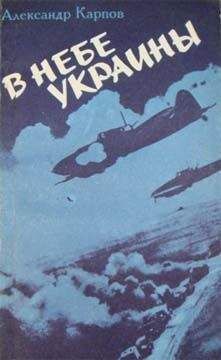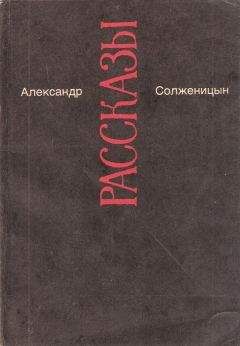Захар задумчиво погладил измятый конверт и печально обронил:
— Жаль, матери написать не могу. Скорее бы делали вторую операцию!
— Есть для тебя хорошая новость, — начал Пискунов. — Кое-кого наградили. Тебя тоже…
— Стой, стой… — поднял обе руки Захар. — Меня говоришь?
— Орденом Отечественной войны…
Захар глубоко вздохнул и крепко-накрепко вцепился руками в спинку койки. Затем он поднялся, присел, вновь стал обшаривать руками кровать. Я со страхом следил за его пальцами, которые не находили себе места.
Мы договорились не рассказывать Захару о наших потерях. Ведь не скажешь, что погиб младший лейтенант Савельев, так и не успев получить свой первый орден Ленина. Вступив в единоборство с «мессершмиттами», не вернулся с боевого задания Ваня Панкратов, пытавшийся подобрать с подбитого штурмовика Сергея Вшивцева.
Но вот настало время прощания. Поблагодарив сестру и врача, мы подошли к Хитали, неподвижно лежавшему на койке. Захар испуганно подскочил, вытянул вперед руки, затем схватился за повязку, готовый сдернуть ее с глаз.
— Я скоро выпишусь, — уверял нас. — Лишь бы с глазами было все в порядке.
— Комиссар сказал, чтоб ты не торопился с выпиской, — напомнил Василий Пискунов.
— Не торопился!.. — как эхо повторил Захар. Он встал, приподнял голову и, побледнев, еще раз повторил: — Не торопился…
XВ те дни все взоры были прикованы к Сталинграду. Изуродованный вражескими бомбардировщиками город стал нам еще ближе и дороже.
Каждый раз, когда, возвращаясь с боевого задания, мы видели, что наши войска не продвинулись вперед или, наоборот, были потеснены врагом, жизнь для каждого из нас становилась бледной и будничной, а все старания наши казались ничтожными и пустыми.
Как мы все ждали наступления! С непередаваемым трепетом души, с ощущением холодка, с которым рыболов ждет, чтобы дернулся поплавок, бросали взгляд на карту, где каждый день наносилась новая линия фронта.
Многие из моих друзей сложили головы в эти дни в боях под Сталинградом. Не было такого боевого вылета, чтобы из прокаленного солнцем неба не приходило к нам горе. Гибли люди. Горели на наших глазах самолеты, но не было слез на наших глазах. Теснее прижавшись друг к другу, мы клялись отомстить за смерть Савельева, за муки Хитали, который все еще находился в госпитале.
Я с пониманием отношусь к нелегкой судьбе любого солдата на войне, и все-таки о летчиках хочется сказать особо. Ведь летчик в каждом вылете, даже в мирное время, подвергается опасности. Мало ли какие сюрпризы готовит стихия: гроза, сильный ливень, туман…
Те, кто на земле, чувствуют ее, матушку-заступницу. Она нет-нет да и выручит из беды, укроет от опасности. Наш же брат, летчик, иной раз жестоко обжигался об эту самую землицу. Неласково встречала она нас при вынужденных посадках…
Хитали готовили к повторной операции. Возле него колдовал анестезиолог-реаниматор, толпились люди в белых халатах.
Сам Захар с нетерпением ждал, когда начнется операция. Он старался во что бы то ни стало победить страх, который совсем не походил на тот, что пришлось почувствовать при вынужденной посадке осенью 41-го.
Почему-то вспомнился сосед дедушка Вахтанг, который инвалидом вернулся с первой мировой войны. У него была только одна половина лица. Вторая, говорили в селе, осталась у австрийцев, где он был контужен.
В эти дни Захар часами слушал рассказы солдат о том, как руки хирурга-волшебника восстанавливают облик тяжелораненых, лепят пр живому, возвращая человеческому лицу первоначальный вид.
У соседа по койке удалили челюсть. Потом из пересаженных костей сделали новую. И вновь готовили к операции. Но он не унывал, утешал Хитали:
— Мы еще повоюем! Главное — были бы руки да глаза.
Глаза! Вот это больше всего его и волновало!
Началась операция. Она длилась 2 часа — семь тысяч двести секунд, и каждая из них была рубежом, выигранным в битве за зрение. Когда наложили последний шов, все, кто присутствовал при операции, вздохнули с облегчением.
Вскоре Хитали пришел в себя. Он все еще не верил, что все позади. Промокла повязка — это потекла по багровым рубцам и шрамам обжигающая слеза. Он не раз слышал, что от таких, как он, порой отрекаются любимые, отворачиваются во время разговоров друзья.
— Переведите его в четырехкоечную палату, — распорядился начальник отделения. — Подберите ему в соседи веселых ребят из выздоравливающих.
«Персональную» опеку упавшего духом больного поручили молоденькой медсестре. Девушка по несколько раз в день заглядывала к Хитали в палату; расскажет новости, пошутит. А уходя, будто ненароком скажет: «Доктор рассказывал о вашем мужестве…».
Но Хитали только позже узнал, какую сложную задачу решали врачи, как трудно им было. Он не знал, что если при пересадке кожи ошибиться хотя бы на миллиметр, будет искажено выражение лица. Поэтому врачи так долго искали решение. Наконец оно было найдено. Но тут же возник вопрос: как применять обезболивание? Наконец и эта задача была блестяще решена.
Наступил день, когда должны были снять повязку. Накануне Хитали почти не спал всю ночь, ждал утра.
Уже снята повязка. Но Захар не открывает глаза. Дьявольский страх сжимает веки, сердце колотится сильно, словно вот-вот вырвется наружу.
— Ты же летчик! — доносится до него чей-то голос. — А боишься!
Слова подействовал, и Хитали раскрыл глаза. Он увидел окно, зашторенное занавесками, а между ними безбрежное бирюзовое небо.
— Вижу! — вскрикнул он. Захотелось вскочить на ноги и броситься на свой аэродром, где пахнет чебрецом и диким луком, припасть к земле…
Прощаясь с врачами и нянечками, Захар совсем повеселел. Подойдя к зеркалу, долго смотрел на себя изучал швы шрамы. Затем с облегчением вздохнул и сказал:
— А ведь не хуже, чем был.
XIХитали спрыгнул с подножки «зиса», осмотрелся кругом и уверенно зашагал в сторону аэродрома.
— Товарищ командир! Младший лейтенант Хиталишвили прибыл для дальнейшего прохождения службы, — четко отрапортовал он Толченову.
— Хитали! — вскочил Толченов, тиская в обьятиях летчика. — Комиссар, смотри, кто явился-то!
— Захар! — обрадовался майор Выдрыч. — Наконец-то. Я верил, что ты вернешься!
На Захара смотрели добрые, радостные глаза друзей. Звучало много хороших, сердечных слов, но слова Выдрыча особенно взволновали: он верил в возвращение летчика! Он ждал его! К горлу подступил предательский комок, и на глазах выступили слез.
Не в силах совладать с волнением, Хитали направился к выходу из землянки.
— Да, чуть не забыл! — крикнул вдогонку Выдрыч. — После ужина — на концерт!
Мы торопим шофера, чтобы засветло приехать в поселок. Бегут навстречу порыжевшие, высохшие от зноя поля, кругом однообразная степь. Унылый пейзаж. Когда-то здесь паслись отары овец, тысячи лошадей, а сейчас изредка встретится хищный хозяин этих мест — орел-степняк или взлетит испуганный гулом автомашины стрепет. В полете он похож на утку, угадывается по белым подкрылкам, роняющим на землю отблески вечернего солнца.
Но вот блеснул рукав Волги, потянуло сырой прохладой. Старик-рыбак в рваных резиновых сапогах снимает с самодельной тележки корзину с рыбой. Вверху на фоне угасающего неба резко выделяется летящий с запада на восток немецкий разведчик. Он словно коршун выслеживает, где что плохо лежит: значит, завтра жди «юнкерсов» или «хейнкелей».
Артисты у нас впервые. На кузове грузовика, превращенном в сцену, задорно пляшут танцоры из фронтового ансамбля, с гиком проносятся они перед зрителями, сидящими в «зале» — небольшой поляне между темнеющими домами. Над головами зрителей висят крупные яркие звезды. Кажется, протяни руку, и упадут они тебе в ладони, теплые и ласковые, как пшеничные зерна.
На сцену выходит певица. Она поет о тревожной молодости, о девчонках, которые ждут. Слова песни бередят душу, задевают самые нежные ее струны. Вспомнился вдруг дом, оставшаяся там мать и две сестры.
Только сегодня я получил письмо от матери. Сколько долгих дней этот конверт шел из рязанской деревушки ко мне, на берег Волги!
Далеко отчий дом от Сталинграда. А стоит только на миг закрыть глаза, и он рядом, совсем близко. Вижу, как встает утром мать. Она встает еще затемно, тихо-тихо, чтобы не разбудить младших сестренок. У нее всегда много хлопот. Нелегко ей одной без мужа. Отец мой рано умер, и все заботы легли на плечи матери.
Она часто прижимала к себе мою стриженую голову и ласково бормотала: «И когда ты только вырастешь!». Мне в ту пору шел тринадцатый год.
Милая мама! Я постоянно чувствую свет и тепло твоей души. Кто не помнит с детства материнские руки!. Вот ты заботливо надеваешь на меня штопанное-перештопанное пальтишко, купленное по дешевке на базаре. Поверх воротника наматываешь пухлый обруч шарфа, связанного собственными руками…