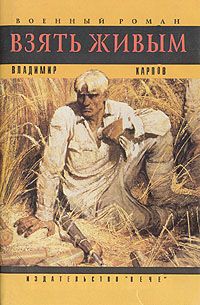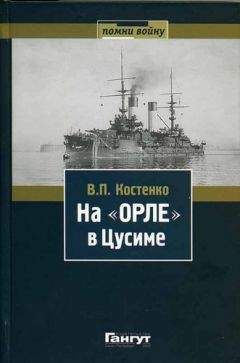Колыбельников и врач шли в том направлении, где наступало отделение Голубева. Юрий несколько раз оглянулся, посмотрел на замполита, улыбнулся. Бледности на его лице не было, он был теперь опять, как все, разгоряченный, румяный и потный от бега. Он видел Колыбельникова, понимал, почему тот идет неподалеку от него. Не осознав еще, почему столь неожиданно переменилось вдруг отношение его к замполиту, Юрий ощущал радость, что этот умный, честный и справедливый человек стал так близок. «Я вас не подведу!» — думал Юрий, чувствуя прилив сил от желания избавить замполита от неприятностей, которые могут быть из–за этого ранения.
Пересекая неглубокую лощинку, Колыбельников увидел неподалеку Дементьева, радушно крикнул ему:
— Голубев–то наш молодец! Сержант радостно ответил:
— Я же говорил вам, товарищ майор, он мировой парень!
Колыбельников подошел поближе, решил даже здесь поучить исполняющего обязанности замполита роты.
— То, что он парень хороший, я вижу. Но и «наш Голубев» я сказал вам не случайно. Месяц назад вашему дружку были «до феньки» и стрельба, и учения. Я не знаю, чем руководствовался Голубев, оставаясь в строю. Может быть, даже не тем, что мы с вами ему внушали. Но о чем бы он ни думал, какой бы порыв им ни руководил — породили его мы, и это много значит!
Дементьева смутили эти слова замполита, он не успел ничего ответить. На правом фланге показались контратакующие танки «противника».
— Мне надо туда! — уже на бегу крикнул Дементьев майору.
Как только прозвучали сигнал «Отбой», Голубева все же отправили на санитарной машине в расположение полка. Сопровождал его врач, который перевязывал рану. Дорогой он не раз спрашивал:
— Жара не чувствуешь? Температура не повышается?
— Нет. Все нормально, — отвечал Голубев, а сам думал: «Как же, так я тебе и скажу!» Он проверял: есть жар или нет? Вроде и вправду не было. Только плечо ныло, особенно когда трясло машину. Да голова болела, может быть, и не от раны, а от бессонных ночей и усталости, а тут еще запах бензина и нагретой солнцем резины в тесном кузове «санитарки» был неприятен до тошноты.
В медпункте Голубеву помогли вымыться под душем. Он старался не замочить бинты, но все же они пропитались влагой.
— Ничего, сменим, — сказал врач.
Рану он не открывал, только смотал мокрый бинт и накрутил новый, ватную подушечку с лекарством не трогал. А Юрию любопытно было посмотреть, какая у него рана, он ведь ее не видел там, на стрельбище: когда упал, ее закрывала одежда, потом подбежал врач и наложил повязку.
В палате больных не было. Белые стены, тумбочки, подоконники, занавески на окнах. Кровати, покрашенные под «слоновую кость», аккуратно заправлены. После теплого душа Юрий чувствовал и облегчение, и усталость, смыл пот и пыль, а слабость стала еще более ощутимой.
— Ложись, отдыхай, — сказал врач. — Если что–нибудь понадобится, зови дежурного, он будет здесь, в соседней комнате.
Дежурный фельдшер, низенький, широкоплечий сержант с простым лицом и добрыми глазами — он помогал Голубеву мыться, а сейчас стоял у двери, — при этих словах врача показал рукой, где именно его комната.
В мягкой чистой постели пахло свежими простынями. Юрий с наслаждением вытянулся, расправил раненое плечо, прохладная ткань приятно нежила тело. «Как все неожиданно и так удачно сложилось, — думал Юрий. — Ранение пустяковое, отосплюсь теперь не только за учения, но и за всю службу, недельку, наверное, здесь продержат». Голубев хотел по порядку обдумать все события. Но не успел. Глаза стали слипаться. Через несколько минут он спал.
Проснулся Голубев на рассвете. Приподнялся, чтобы посмотреть в окно; плечо тупой болью напомнило о себе. Юрий облокотился здоровой рукой о подоконник. Двор был пуст. Синеватый рассвет открывал казармы, деревья, клумбы. Только окно дежурного по части светилось бледным электрическим светом. Полк еще спал. «Чего же я так рано проснулся? Хотел несколько суток проспать, а встал так рано. — Юрий подсчитал: — Заснул часов в девять вечера, сейчас четыре, значит, спал семь часов. Вот привычка, даже после ранения лишнего часа не прихватил!»
Было тихо, прохладно, в голове радостная свежесть. Глядел на голубоватый в свете утра двор, и вспомнились слова песенки: «Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет». «А я, наверное, буду петь после службы так: «Снятся людям иногда полковые города, у которых названия нет». В Ленинграде у нас бывает по утрам такая же голубоватая дымка.
Какой удивительный вираж произошел в моей жизни! Ребята и девчонки учатся в институтах, а я вот в Каракумах. Вадька — в индустриальном, Зойка — на филологическом, даже троечник Федулов прошел в финансово–экономический. Он проскочил. А я вот лежу — раненый рядовой Голубев… А что, это звучит: был ранен! А как дома воспримут мое ранение? Мать, конечно, переполошится, придет в ужас. А отец? Он относился ко мне последние годы как–то иронически и даже презирал меня. И вот теперь вдруг узнает, может быть, даже письмо ему напишут. «Ваш сын совершил героический поступок…» Отец будет рад, скажет: «Перебесился». Он вообще был доволен, что я угодил вместо института в армию. Совсем не переживал и не отчаивался, как мать. Значит, он был прав: меня здесь обломали, обтесали? Но что, собственно, произошло?» Юрий припомнил свою службу: никаким особенным мерам воздействия вроде бы не подвергался. Нелегко, конечно. Чуть свет — подъемы, кроссы, учения, всюду быстро, бегом, ни минуты расхлябанности. «Что ж, так и прошли бы два года, если бы не услыхал замполит, как я пел песенки?..» Да, с этого все и началось… Слушал лекции, беседы, политинформации, слова стукались и отскакивали, как горошины, ничего в голове не оставалось, кроме своей убежденности: разговоры–разговорчики, а в жизни все не так! «А что, собственно, меня не устраивает? — спросил себя Юрий. И вспомнил беседы с Колыбельниковым. — Я ему даже не мог толком объяснить свое отношение к жизни, а доказательства замполита увязаны в стройную убедительную систему. Скучновата она, эта система, уж очень все зарегулировано. А что противопоставил ему я? Ну, при беседе с ним я делал вид, будто не все могу высказать. Но сейчас, сам с собой, я могу быть до конца открытым? Чего я хочу? Для меня идеал справедливости, скромности, честности, принципиальности — Ленин. Мне кажется, обюрократились, очерствели некоторые работники. Но где они? Кто из таких встретился на моем пути? Взяточники и хапуги в институте? Так они разгуливали до первого вмешательства прокурора. С кем же я хотел бы схватиться? Что поправить? Колыбельников говорит: третьего не дано — или с нами, или против нас. Значит, я в чем–то против? Тогда в чем же? Что в конце концов меня не устраивает? Вот и получается — сам я толком не знаю, чего хочу, или, как говорит майор, нет у меня положительной программы, одни отрицания».
Около домика дежурного сверкнула золотом на солнце труба сигналиста, поплыл над городком протяжный зов: «Поднимайсь! Поднимайсь!» Ох и не любил же его Юрий! Особенно в первые недели службы, голову под подушку прятал, только бы не слышать это проклятое «Поднимайсь!». Больше всего запомнилось Юрию из первого месяца службы тягостное ощущение недосыпа. Дома он спал вволю. А тут уставал от армейских нагрузок, да еще поспать не давали, семь часов, и — будь здоров! — труба поет: «Поднимайсь!»
Городок мгновенно ожил: побежали, затопали сапогами роты и взводы. Солдаты, оголенные до пояса, загорелые, мускулистые. Увидел Юра и свою пятую роту. Знакомые лица: Дементьев, Мерзляков, Савельев, Иргашев.
Зашел в палату фельдшер–крепыш:
— Ну как ты себя чувствуешь? Давай померяем температуру.
— Нормально. Чувствую хорошо.
— Все равно подержи градусник, надо проверить.
Юра положил холодную стеклянную трубочку под мышку, мурашки пробежали по спине. «Я действительно отлично себя чувствую. Значит, проверяющему майору никакой зацепки против Колыбельникова не будет». Температура оказалась в норме — 36,6.
— Порядочек, — сказал сержант.
— Ты кто же — брат милосердия? — спросил весело Голубев.
— Хватай выше, — с напускной серьезностью сказал дежурный. — Я фельдшер, сержант медицинской службы!
Он, видно, был хороший, незаносчивый парень.
— Ты здесь, в армии, стал медиком? На курсах учился?
— Нет, на гражданке, медицинский техникум окончил. Я акушер. Так если рожать надумаешь, могу быть полезным.
Юра удивился:
— Почему ты себе такую смешную специальность выбрал? Ты же парень. Неудобно женщинам при тебе рожать.
— Когда прихватит, брат, не до этикета! И вообще, как в каждом деле, тут главное — умение, от него и уважение к тебе пойдет. Меня, брат, очень уважали женщины в нашем районе, к моему дежурству рожать подлаживались. Рука у меня легкая — все дети моего приема как огурчики здоровые, горластые, орут — на весь город слышно. Я их специально по попкам шлепал, чтоб громче кричали, воздуху больше при первых вздохах набирают. Когда свои дети пойдут, поймешь, как это здорово! Я всему району родня, уже Многие меня привечают — и отцы, и матери, и дети. Так что специальность моя очень хорошая. Всегда я при радости!