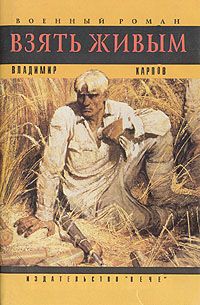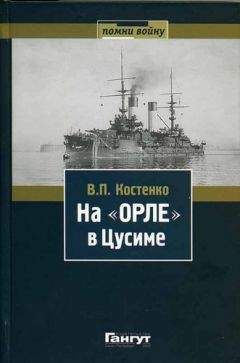Юрий видел в окно, как он, крепкий, коренастый, бежал через двор к расположению роты, бежал легко, красиво. Голубев, глядя на него, подумал: «Кряжистый, как лесоруб, а летит, как танцор».
После ухода Дементьева Юрий попросил у фельдшера бумаги и конверт, написал домой письмо и не без гордости, хоть и облекал все это в шутливые слова, сообщил, что теперь он настоящий солдат — потому что ранен хоть и в учебном бою, но рана совсем не учебная!
Вечером пришел навестить майор Колыбельников. Голубев поднялся с кровати: он лежал поверх одеяла в больничной пижаме.
— Не вставайте! — пытался остановить его Иван Петрович, вытягивая вперед руки.
— Належался, уже надоело, товарищ майор.
— Врач говорит, все будет хорошо.
— Я чувствую себя нормально.
— Вот и прекрасно.
Юрий ловил взгляд майора. Хотелось понять, только ли затем, чтобы узнать о его состоянии, пришел замполит. Будет ли продолжение прежних разговоров? Очень хотелось спросить, зачем майор сделал из него героя. Его придумка, Юрий отлично сознавал это. Но майор, как и Дементьев, вроде бы немножко лукавил, не встречал взгляд Голубева и, видно, хотел ограничиться обычным разговором, которые ведут с больными, не желая их волновать и беспокоить.
Убедившись, что Колыбельников о серьезном сегодня не заговорит, Юрий спросил сам:
— Товарищ майор, зачем вы все это сделали?
Колыбельников не стал уклоняться, делать вид, что он не понимает, о чем идет речь.
— Так надо было, Юра. Прежде всего для тебя. Я хотел тебе помочь. И помог. Но благородный поступок ты совершил сам. Не сомневайся. Я только тебе подсказал. А все остальное, необходимое для мужественного поступка, ты нашел в себе. И я очень рад этому.
— Недавно вы были обо мне другого мнения.
— Да, было в тебе такое, что мне не нравилось. Оно тебя портило, обедняло. Ты гораздо лучше, чем старался выглядеть. Какой–то туман застилал тебе глаза.
— Я и сейчас не могу в себе разобраться, а вы вот уже во мне все поняли.
— Ты ошибаешься, многое и мне еще неясно. — Майор помолчал и задумчиво добавил: — Но главное я понял.
— Расскажите, пожалуйста! — горячо попросил Юра.
Колыбельникова радовал этот разговор, даже не сам разговор, а то, как Голубев себя вел. Он теперь был не прежний — сам себе на уме, сомневающийся, ироничный; теперь он явно делал шаг навстречу замполиту.
— Как бы тебе, Юра, разъяснить это понагляднее!.. Жизнь человека можно сравнить, например, с листом бумаги, где записаны не только все видимые его поступки, но нанесена еще и тайнопись. Пока этот скрытый смысл не проявлен, все в человеке кажется понятным, простым, очевидным. Но в каких–то принципиальных поступках, как в реактивах, тайнопись проявляется и становится видной между строк, на полях, вдоль и поперек прежде написанного текста. Всего этого так много, что простота и понятность пропадают. Вот эта сложность и составляет личность, определяет характер человека. Абсолютно понятных окружающим и самим себе людей нет. И это естественно — человек в постоянном развитии. Хорошо, четко ложатся все — и тайные, и явные — строки жизни у людей с крепким стержнем. Вкривь и вкось — у людей с шаткими убеждениями и слабой волей.
— Значит, у меня вкривь и вкось?
— Скажу еще кое–что, только не обижайся. Ты нахватал много знаний, или, как принято сейчас говорить, информации. Но у тебя по молодости лет еще нет все объединяющего, необходимого для личности социального стержня. Ты, Юра, был блуждающий и только сейчас становишься ищущим. Это уже хорошо!
— По пословице — кто ищет, тот всегда найдет?
— Очень важно еще — что именно найдет. Мне бы хотелось, чтобы ты нашел себя как будущий советский поэт. Ведь талант — это такая редкость. Он у тебя есть. Надо тебе обрести прочный социальный стержень, и будет порядок.
Колыбельников сознавал: идет очень важный разговор, от которого зависит не только его, замполита, авторитет, но, может быть, и поворот в судьбе этого способного юноши. Воспримет или не воспримет он то, к чему так хочет приобщить его Колыбельников? Понимая это, Колыбельников волновался, но и радовался, что появилось это внутреннее волнение, оно всегда помогало прежде в такие вот ответственные минуты, придавало нужную страсть и убедительность его словам.
— Как же мне обрести этот стержень? — спросил Юрий.
— Важно, чтобы ты этого сам захотел. Ты должен понять необходимость этого прежде всего сам.
— Я, кажется, понял, — сказал Голубев.
— Понял или кажется?
— Кажется, — честно сказал Голубев, потому что не ощущал в себе полной ясности и потому еще, что привык говорить Колыбельникову правду. Не хотел и не мог с ним кривить душой.
— Спасибо тебе, Юра, за доверие, — будто уловив его мысли, сказал майор. — Если бы ты сказал, что тебе все абсолютно понятно, это было бы обидно для меня. Я бы тебе не поверил. Убеждения в одночасье не меняются. Они как создаются, так и меняются в течение длительного времени. Ты, пожалуйста, больше спрашивай меня обо всем, что тебе непонятно. Я постараюсь честно и откровенно отвечать. По–моему, ты убедился еще в нашей первой беседе — на все твои вопросы я говорил без утайки, все, что думаю.
Юра глядел на доброе лицо Колыбельникова и думал: «Не знаю, чем все это кончится, оправдаются ваши надежды или нет, но все же очень хорошо, что вы встретились мне в жизни».
У Юры даже был порыв сказать это майору, но удержала стыдливость показаться сентиментальным, нежелание выглядеть желторотым юнцом; он впервые чувствовал себя мужчиной, который ведет на равных такой вот серьезный разговор.
— Ну ладно, поправляйся. Мне пора, партийное собрание в первом батальоне.
Юра проводил майора до двери, попрощался и долго смотрел вслед Колыбельникову, думая о том, как хорошо быть вот таким убежденным, умеющим разобраться в любых сложностях жизни. «Ну а что мне мешает овладеть всем этим? Лень. Боязнь, что все это слишком сложно, непонятно, потребует много сил. Значит, опять — лень? Нет, еще и подспудные сомнения — а нужно ли мне все это? Можно ведь прожить и без этих сложностей. Значит, опять — лень? Мозговая, мыслительная лень. Откуда же она взялась? Где я ею заразился? Дома и в школе приучали меня жить и трудиться настойчиво. Откуда же это размагничивающее состояние? Когда оно появилось?»
О многом думал Юрий в дни лечения в полковом медпункте. Вспомнил разговоры с дружками, перебирал в памяти свои стихи. Пришел в конце концов к заключению: главное, что запало из бесед с Колыбельниковым, — была формула: «Третьего не дано, только «за» или «против». Юрий и раньше слышал ее, но не доходила она до сердца, не превращалась в руководящую поступками идею. И вот замполит убедил, научил пользоваться ею, и все начало вставать на свои места. Проверяя на этой формуле свою прошлую жизнь, Юрий думал с запоздалым стыдом: «Какой же я был темный! А еще строил из себя борца за правду! Говорил о высоких материях — справедливость, интересы народа! Рассуждал: «у них», «у нас», — а что я понимал в этом? Нахватался верхушек, а разобраться, что к чему, не мог, не было этого вот критерия — «за» и «против».
Когда Голубева выписывали из медпункта, он сказал Бикетову, с которым подружился:
— Скажи, акушер, какой самый большой вес ты помнишь у новорожденного?
— Около пяти кило. Один мальчонка, даже с зубом народился.
— Ну вот, теперь в свою практику можешь записать новый рекорд: семьдесят пять килограммов и все тридцать два зуба!
— Хорош новорожденный! — поддержал шутку фельдшер.
— Я не шучу, Вилен Тимофеевич! Будь здоров!!
Иван Петрович позвонил заместителю командира второго батальона по политической части, узнал, как идет подготовка к вечеру поэзии.
Капитан Зубарев доложил:
— Мы уже готовы. Наметили провести его в ближайшее воскресенье после обеда. Только мне кажется, товарищ майор, надо назвать это мероприятие не просто вечером поэзии, а как–то по–другому, под каким–то девизом — «Слава подвигу», скажем, или «Служу Советскому Союзу». Напишем красивую афишу с этими словами.
Колыбельников хотел было возразить, получится именно мероприятие, а он задумал преподнести солдатам уроки настоящей поэзии, высокого искусства. В таком деле не митинговость нужна, а именно интимность — это же поэзия! Да и время выбрали неудачно — после обеда люди будут дремать на этом «мероприятии».
— Может быть, не устраивать собрание с чтением стихов, — спросил Колыбельников, подчеркнув слово «собрание», — а провести вечер отдыха?
Зубарев, видно, был настроен на яркий, шумный праздник поэзии.
— Как прикажете, — сказал капитан сникшим голосом.
Теперь изменилось настроение у Колыбельникова:
— Вы бросьте эти «чего изволите?». Я вас спрашиваю, как лучше. Советуюсь. А вы мне — «как прикажете».