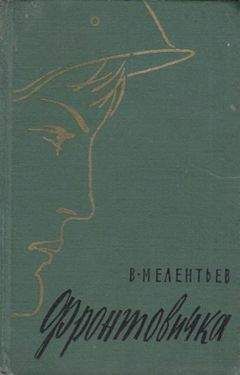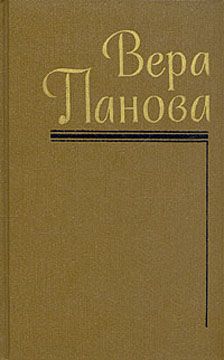— Но понимаете, Валя, я сейчас в лучшем положении, чем Чайковский. Да, да, не удивляйтесь. Он мог видеть и вот эту лунность, и покой, и такую девушку, как вы, и все то, что мы с вами видим, — всё, всё. Он, наверное, как Наташа Ростова, с молоком матери, с воздухом впитал в себя все русское. Но он не видел, не мог видеть всего этого при подсветке вот этих разрывов, не слышал тарахтения вот этих автоматов и не мог идти по такому лесу с седой девушкой в военной шинели. И куда идти! На фронт! На передовую. И для чего?! Чтобы дать концерт. Понимаете?! — торжествовал Виктор. — О нет, я знаю, потом, после войны, найдутся людишки, они будут страшно завидовать нам, видевшим и пережившим вес это, в глубине души они будут презирать себя за то, что не пришли сюда же, а отсиделись в тихом местечке. О, эти люди изворотливы и хитры. Они станут доказывать, что война — это только барабан и разноголосица духовых инструментов. И они никогда не поймут сочетания литавр и гитары, медных тарелок и скрипок…
Он замолк и вздохнул. Валя ощутила странную покорность Виктору, она как бы повторяла его слова и мысли, и они сами по себе становились ее словами и мыслями. Но когда она поняла это, ей захотелось освободиться от его влияния, и она осторожно нащупала слабое место в его горячей исповеди.
— Если эти люди будут завидовать, они, возможно, постараются принизить нас.
Он быстро взглянул на нее, решительно, как винтовку, поправил аккордеон и уже не радостно, а сердито, с несвойственным ему металлическим тембром в голосе ответил:
— Да! Даже наверное. Они скажут потом, что, поскольку на фронте было место для концертов, поскольку нам выдавали паек несколько больше, чем им (хотя, я уверен, такие наверняка добьются отличного пайка и сейчас в тылу, но все равно!), и поскольку на фронте даже бывала любовь, постольку мы жили просто на курорте. А истинные трудности переживали только они. Да, эти все могут сказать! — сердито воскликнул он, помолчал и вдруг весело сказал: — А ну их к черту! Если мы выживем — мы будем богаче душой, они — карманом. Но с пустым карманом мы в своей стране проживем, а вот проживут ли они в ней с пустой душой? — И уверенно ответил: — Не проживут, а проедят свою жизнь. И когда мы на них навалимся, они будут кричать, что мы насилуем их индивидуальность, что мы — против свободы творчества. Я знаю, они будут кричать о своем праве изображать мир таким, каким они его видят. А что они видят? Ничего! Нет, Валя, мир будущего за нами.
Нет, в этот лунный вечер он был положительно необычен — длиннолицый, с тонкими чертами, немного смешной и, в общем, красивый особенной, одухотворенной и непримиримой красотой. Впервые за всю жизнь Вале захотелось, чтобы этот парень, этот Виктор прижал бы ее руку, а еще лучше — обнял, чтоб привалился к ней плечом не потому, что другое плечо его оттягивает аккордеон, а потому, что он хочет быть ближе к ней, хочет чувствовать ее так же, как и ей хотелось ощущать его светлую и непримиримую чистоту и решительность.
Они замолчали и, замедляя шаги, потупились, рассматривая четкие резкие тени на снегу, старательно перешагивая через них, точно опасаясь споткнуться. Лес был молчалив, и даже на близкой передовой стояла тишина — ни выстрела, ни звука. И в этой тишине нужны были какие-то особенные слова, потому что все вокруг было особенным, и Валя с бьющимся сердцем ждала этих слов, хотя и не знала, какими они должны быть.
Виктор, видимо, уловил это ожидание, искоса, нервно раздувая ноздри, посмотрел в ее белое и в лунном свете строгое лицо и вдруг стал медленно высвобождать свою руку от Валиного локтя. Ей хотелось прижать эту теплую, уютную руку, не отпускать ее, хотелось самой встать поближе к Виктору, а он вдруг выпрямился, и его плечо отошло от Валиного. Стало холодно, и по всему телу пробежала дрожь. Виктор опять взял девушку под руку и не совсем уверенно сказал:
— Давай дружить, Валя…
Она быстро, с надеждой повернулась к нему, заглянула в глаза, но он смутился, потупился и через секунду уже совсем другим, нарочито приподнятым тоном сказал:
— Нет, ты не подумай… Нет, я честно!.. Понимаешь, не так, как мужчина… как парень с девушкой. А просто, как люди. Понимаешь, просто, как два фронтовика. А? — спросил он совсем робко. — Давай?
В сердце было уже холодно и пусто, легкая дрожь опять пробежала по телу. Валя вздохнула и кивнула:
— Понимаю… что ж… давай.
Виктор шумно сглотнул воздух, натянуто улыбнулся. Глаза у Вали защипало, но она отчаянным усилием не только воли, а всего тела сдержала слезы и неестественно весело крикнула:
— Ты чудак, Витька! Мы ведь уже друзья! — и резко толкнула его.
Он оступился и, выбрасывая руку в сторону, едва удержался, чтобы не упасть. Стараясь смеяться как можно громче, размахивая гитарой, Валя побежала по дороге. Виктор догнал ее, бросил в лицо горсть мягкого, пахнущего свежестью снега и тоже рассмеялся — слегка растерянно и выжидающе. Он понял, что сделал что-то не так, и теперь ждал ее взгляда, жеста, слова, чтобы исправить ошибку. Но Валя знала: ошибка сделана и исправлять ее поздно.
Они шли по тропинке, смеялись, громко разговаривали и казались очень довольными собой и друг другом. Но плечо мерзло все сильней, и потому все чаще пробегал озноб. Первое в жизни желание, первый призыв так и не был услышан.
Валя уже давно заметила, что, когда она играла и пела как будто для себя, как бы забывая об окружающих, подбирая вещи по своему настроению и вкладывая в них кусочек сердца, ее слушали особенно внимательно, и тогда она и в самом деле забывала о притихших зрителях. Виктор всегда улавливал это ее настроение и легко находил особую манеру аккомпанемента — мягкую и как бы неслышимую. Аккомпанемент этот только подчеркивал и оттенял то, что хотела донести Валя до слушателей. И уже потом, после концерта, заново переживая спетое, она благодарила Виктора за его умение помочь ей своим искусством. Виктор краснел и отмахивался:
— Да ну, пустое, просто ты была в ударе…
Вот такой «удар» пришел к ней в один из предвесенних новолунных вечеров на самой передовой. В большой землянке собралось десятка три бойцов и сержантов. Они сидели на нарах, стояли в проходах, торчали в дверном проеме. Было душно, тесно и небезопасно: стоило только снаряду угодить в ненадежные накаты…
Дежурный по батальону заметил этот непорядок и попытался было разогнать половину слушателей, но вместо этого сам застрял у дверей и примолк.
Валя пела много и хорошо. Отдыхая во время исполнения Виктором сольного номера, она поймала себя на том, что пела в этот вечер и не для себя, и не для всех. Пела она, оказывается, для сероглазого, светловолосого паренька, который сидел на нарах чуть наискосок от Вали и, не отрываясь, с восторженной улыбкой смотрел на нее. И она тоже невольно смотрела на него и по выражению его глаз, лица, даже по движению рук угадывала, нравится ему то, что она поет, или нет, и старалась петь так, чтобы ему нравилось. Паренек словно понимал это и отвечал ей благодарным и чуть восторженным взглядом чистых серых глаз.
И еще отметила в этот вечер Валя: раньше, когда она пела и играла словно для себя, забывая о слушателях, она никогда не знала такого хорошего, горделивого чувства, какое узнала в тот вечер. Горделивого потому, что поняла: она может овладеть вниманием, когда захочет, и это заставляло ее по-новому взглянуть на своих слушателей. Раньше она не видела их. Сейчас она видела почти каждого, оценивала мгновенно, даже пыталась представить их характеры.
Сделав это открытие, Валя выбрала пожилого, невозмутимого бойца и с веселой, даже резкой решимостью подумала: «Сейчас я его расшевелю…»
Прильнув к гитаре, она тихонько повела одну из любимых дедушкиных песен:
Глухой, неведомой тайгою…
Голос ее лился ровно, и в нем все сильнее звучали нотки задумчивой печали.
Сибирской дальней стороной, —
выдохнула она и, отрываясь от гитары, взглянула на пожилого бойца.
Его широкоскулое обветренное лицо было все так же бесстрастно, и только в узких, глубоко сидящих глазах мелькнуло что-то беспокойное. Но боец сразу же потупился, а его прокуренные усы сникли.
Вале почему-то стало жалко его, себя, бежавшего с Сахалина бродягу и своего отца, который сидит, должно быть, в этой самой глухой сибирской стороне. Горло перехватила спазма, но Валя быстро справилась с собой и, не отрываясь, глядела на пожилого бойца, пела только для него — усталого и, судя по всему, видевшего много бед и знающего терпкую горечь пережитого несчастья. Всю душу, все свое не бог весть какое мастерство вложила она в эту песню, но лицо бойца было все так же невозмутимо и бесстрастно. И когда она уже забыла о своей дерзкой решимости и почти разуверилась в себе, вдруг заметила, что в уголках солдатских глаз — сначала в одном, потом в другом — блеснули бисеринки слез. В эту минуту Валя и сама чуть не расплакалась. Прервав песню, она склонилась к гитаре, поправляя челочку.