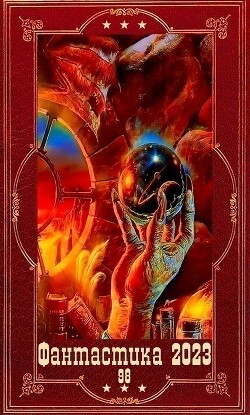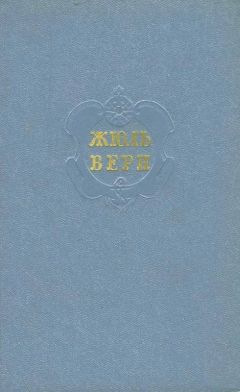В каком положении находился Герлах в декабре 1949 года, показывает один документ, несколько десятков лет носивший пометку “совершенно секретно”. Это приказ об аресте, изложенный на двух страницах и датированный 6 декабря 1948 года. Он подписан 10 декабря военным прокурором полковником Газиным и заместителем начальника отдела МВД полковником Геращенко. Из текста приказа становится ясно, что на тот момент дознание, проводимое одним из офицеров в ходе разбирательства, а также подготовительная стадия судопроизводства были завершены. 17 декабря 1948 года, находясь под арестом, Герлах своей подписью заверяет, что принял к сведению решение советских властей. На документе пометка от руки – указ “зачитан осужденному Герлаху Генриху по-немецки переводчиком старшим лейтенантом Юдайсоном”. Судьба его после приговора, кажется, решена окончательно: 25 лет принудительных работ!
Процесс против Герлаха и других военнопленных, как доказывает приказ об аресте, ведется по схеме, использовавшейся во времена Большого террора 1930-х годов. О том, что обвиняемый получит 25 лет принудительных работ, судьи знали заранее, шансов подать апелляцию, разумеется, не было никаких. Бесправие одного человека – не исключение, распространявшееся только на немецких военнопленных; в Советском Союзе эпохи Сталина это была привычная практика: защитить себя от наветов и выиграть дело в суде граждане СССР не могли. В тюрьме МВД Герлах увидел, что даже те из обитателей Лунёва, кто находился на привилегированном положении, не застрахованы от произвола и террора. Узнав о судьбе барона Конрада фон Вангенхайма – кузена Густава фон Вангенхайма [289], который помогал Герлаху дельными советами во время работы над романом, – он теряет самообладание. Фон Вангенхайм, победитель Олимпийских игр 1936 года в конном троеборье, был приговорен к 25 годам. Значит, похожая участь ожидает и его. Тогда у Герлаха рождается план: сказать “да” и выжить! До сих пор он оставался верным себе и ни разу не переступал черту, однажды им обозначенную. Сталинград сделал из него противника Гитлера, но теперь ему открылись механизмы, которые пускали в ход Советы, дабы насадить в общественной практике идеал “нового человека”. Там, где коллективное начало ставится превыше всего, нет места индивидуализму, он служит помехой и в случае необходимости должен искореняться методами, имеющимися на вооружении государства. Герлах очень хорошо помнил выступления Иоганнеса Р. Бехера и описанные им в конце 1920-х годов принципы, которые надлежит исповедовать интеллектуалу, желающему присоединиться к коммунистическому движению: “Человеку умственного труда, переметнувшемуся на сторону пролетариата, придется спалить большую часть того, что заложено его буржуазным происхождением, прежде чем стать в один строй с рабочим классом”, – писал в то время Бехер. С оглядкой на человека творческого – и не только на него – он требовал: “Столь восхваляемая личность, свято- и высокопочитаемая «индивидуальность» должна умереть. Должна исчезнуть искусственная ее отделка, внутренняя и внешняя, все преувеличенное и парадоксальное, подверженное капризам и настроениям – все то, чем «личность» так гордится. Халатность гения, замысловатая безответственность. Только когда все это себя изживет, родится настоящая личность” [290]. В то время Герлах еще не знаком с исследованием Ханны Арендт, в котором она дает анализ советской системы и ссылается не только на так называемые “чистки”, которым подвергались и немецкие эмигранты Иоганнес Р. Бехер, Фридрих Вольф, Альфред Курелла, Густав фон Вангенхайм, Вилли Бредель, Эрих Вайнерт, Дьёрдь Лукач – со всеми ними Герлаху доводилось иметь дело. Арендт разъясняет, почему практике доноса в условиях “красного террора” отведена первостепенная роль:
Как только против человека выдвигают обвинение, друзья в одночасье оборачиваются ярыми его врагами и волей-неволей начинают доносить, ибо только так заведенное полицией и прокуратурой дело может распухнуть до надлежащих размеров и, если повезет, то даже отвести угрозу от их собственной шкуры; а поскольку речь, как правило, идет о никогда не совершавшихся преступлениях, в доносчиках нуждаются особо – вину нетрудно доказать, основываясь на косвенных уликах. Во время большой волны “чисток” есть только один способ убедить власть в своей благонадежности. И этот способ – донос на друзей. В системе тотального господства для участников тоталитарного движения это, в свою очередь, абсолютно беспроигрышная модель поведения. Поистине, на человека можно положиться только в том случае, если он готов предать друга. Зыбучей материей оказывается дружба, как и вообще любая форма привязанности [291].
Для Генриха Герлаха дружба и искренность именно в исключительных обстоятельствах “тотального института” (термин Альбрехта Лемана), каким являлся для военнопленных лагерь, становятся моральным мерилом. За годы, проведенные в плену, ему не раз приходилось идти на компромиссы и время от времени лавировать, прибегая к той или иной тактике, но до сих пор контракт о сотрудничестве с чекистами отметался им без раздумий. Теперь не оставалось никаких сомнений: 25 лет принудительных работ – плата за сказанное им “нет”. Герлах пишет письмо генералу МВД, который в июле 1948 года настоятельно рекомендовал ему принять предложение коллег. В письме он заявляет, что изменил свою точку зрения и готов к конспиративному сотрудничеству. В последующие дни события развиваются стремительно. Накануне Рождества, 24 декабря 1949 года, его и других заключенных выводят из камер на ковер к прокурору. Сначала он никак не может сообразить, чего от него хотят, но в конце концов подписывает протокол, датированный, правда, задним числом, 16 декабря 1949 года – днем, когда Герлах прибыл в тюрьму особого назначения. Так оказались вычеркнуты восемь дней, проведенных в камере! Все обвинения против Герлаха были сняты. И действительно, в официальном личном деле военнопленного нет ни одного указания на то, что 16 декабря он был переведен в тюрьму МВД. Однако о том, что перевод действительно имел место, свидетельствует сделанная от руки запись, отмечавшая маршрут передвижения обер-лейтенанта: “24 декабря прибыл из пересыльной тюрьмы МВД Московского округа в лагерь № 27”.
Через какое-то время Герлаха сажают в “воронок” и везут за город. Выйдя из машины, он убеждается, что снова в Красногорске, лагерь № 27 принимает его в четвертый раз. Герлах снова встречает бывших своих коллег, членов правления Союза немецких офицеров. Их, сначала отказавшихся работать на русских, уже единицы. А вот генералы Мартин Латтман или Винценц Мюллер, полковник Штейдле, майоры Хоман и Бехлер, военный судья майор Шуман и лейтенант фон Кюгельген – все они уже давным-давно занимали ответственные посты в ГДР [292]. В свое время – Герлах готов был ручаться – они наверняка сказали “да”. И, как доказывают засекреченные папки МВД и КГБ, он оказался прав.
На самого Герлаха 28 декабря 1949 года заводят новое личное дело, куда заносятся последние места пребывания, делу присваивают номер и шифр, под которым материалы хранятся в секретном архиве [293].
В Красногорске Герлаха ждет новое разоблачение. В январе его вызывает на допрос подполковник из Москвы. На этот раз речь идет о миниатюрной копии романа, обнаруженной в двойном дне чемодана. Герлах в отчаянии. Сначала он все отрицает, опасаясь нового ареста. Но потом на душе становится очень спокойно. Терять больше нечего, раньше он боялся за рукопись, и вот ее изъяли, боялся, что будет арестован как военный преступник, и его действительно упекли за решетку, невзирая на членство в Национальном комитете. Офицер ничего об этом не знает и сочувствует. Он уносит рукопись с собой, и Герлаха до поры до времени отпускают. Но настает день, и органы снова требуют его к себе. На дворе апрель 1950 года. Герлах понимает, что это означает. И он подписывает согласие на сотрудничество с мыслью, что бумага все стерпит, но агента из него им не сделать. Подпись – это билет из тюрьмы на свободу.