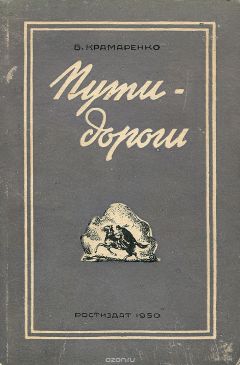Атаман, держась за сердце, встал, нижняя губа его отвисла, обнажив неровный ряд желтых зубов.
В комнату вбежал начальник конвоя — высокий, бородатый вахмистр:
— Ваше превосходительство!.. К дворцу народ идет… с красными флагами. Что прикажете делать? Я полусотню на коней посадил.
Атаман безнадежно махнул рукой:
— Что ты со своей полусотней сделаешь?
Вахмистр обиженно заморгал глазами. Атаман, как человек, принявший какое–то решение, вдруг выпрямился и уверенно бросил:
— Есаул, соедините меня с казачьей казармой.
Богданов торопливо схватил трубку. Атаман снова повернулся к вахмистру:
— Пулеметчиков по местам! Во двор никого не пускать! Охрану парадного хода и ворот удвоить. До прихода к нам казачьих сотен не стрелять! Иди!.. Ну, Виктор Сергеевич, готово?
— Так точно, ваше превосходительство! Сейчас ответят.
Атаман быстро взял из рук адъютанта трубку:
— С вами говорит наказной атаман. Кто у телефона? Что? Какой еще, член совета?! — Атаман, покраснев от злости, крикнул: — Позвать к телефону дежурного офицера! Как арестован? Что? Все арестованы?..
Атаман растерянно опустился в кресло.
Дергач, выйдя за ворота госпиталя, долго жмурился от яркого солнечного света. Левая рука его была подвязана на черном платке. На тротуаре лежала грязь, смешанная с талым снегом. Бойкие ручьи весело бежали по улицам, а воробьи на крыше дружным озорным чириканьем приветствовали наступающую весну.
Было еще рано, и Дергач, направляясь на вокзал, надеялся попасть в Каневскую до наступления ночи.
Пересекая базарную площадь, он остановился: с прилегающих к базару улиц ветер донес до него обрывки песни. Сотни голосов восторженно сливались в волнующем сердце напеве… Дергач еще в госпитале слышал о том, что где–то, в далеком Петрограде, вспыхнула революция и что царя уже нет, но никто пока ничего толком не знал…
Голоса приближались. Уже можно было уловить отдельные слова:
Смело, товарищи, в ногу!
… грудью проложим себе!..
Покрывая голоса, победно грянул оркестр. Из медных труб лились ликующие звуки музыки. Ровными прямоугольниками на площадь вышли солдаты. Впереди полка, с маузером через плечо, шел среднего роста солдат с большой русой бородой. За ним шагало двое: один — еще совсем молодой прапорщик, другой — пожилой фельдфебель. У всех троих на груди были приколоты красные ленточки.
Позади них шел оркестр, а за оркестром — два молодых солдата несли на древках огромное красное полотнище с крупной надписью:
ДОЛОЙ МОНАРХИЮ!
ДОЛОЙ ВОЙНУ!
— Вот это здорово! — прошептал Дергач, пробежав глазами надпись. — Выходит, что и на фронт можно не вертаться, ежели свобода!
За батальонами вольным, широким потоком двигались толпы народа. Ярко рдели на солнце красные полотнища.
Толпа увлекла Дергача за собой. Так и дошел он с ней до атаманского дворца. Раздалась команда, и оркестр смолк. Батальоны спокойно разворачивались перед дворцом.
Во дворе перед полусотней конвоя растерянно метался на коне вахмистр. Казаки хмуро и испуганно косились на улицу.
Под натиском толпы широкие ворота соскочили с петель, и двор сразу наполнился громким криком и гневными возгласами.
От серых шеренг отделились десятка два солдат и вместе с человеком, шедшим впереди полка, направились к дворцу.
Отобрав у испуганных часовых винтовки, они вошли во дворец и поднялись по лестнице на второй этаж, где был приемный зал.
Командир, толкнув дверь, шагнул вперед. Солдаты гурьбой ввалились следом за ним. В комнате возле письменного стола оторопело стоял атаман. Около него застыли перепуганные офицеры.
Атаман угрюмо уставился на вошедших:
— Что вам угодно, господа?
Молодой безусый солдат тихо толкнул бородатого соседа.
— Из серой скотины–то сразу в господа произвел! — весело подмигнул он.
Пожилой солдат, не отвечая ему, с винтовкой в руке подошел вплотную к атаману:
— Нам угодно вас арестовать!..
Стоявший около самого дворца Дергач увидел на крыльце растерянно озирающегося атамана и двух офицеров, окруженных солдатами. К своему удивлению, в одном из офицеров он узнал Кравченко и радостно рванулся вперед, но был оттиснут толпой в сторону. Случайно он поднял голову. На серые шеренги солдат смотрели из темных глазниц чердака тупые рыла пулеметов.
Дергач понимал, что казаки атаманского конвоя замышляют обстрелять солдат. Он мгновение стоял, не зная, что делать, потом, работая здоровой рукой, изо всех сил стал пробираться к командиру. Тот сначала не мог понять, чего от него хочет раненый казак с узелком в руке, но, посмотрев по указанному Дергачом направлению, быстрым движением руки подозвал фельдфебеля. В следующую минуту рота солдат с винтовками наперевес уже бежала к дворцу.
Со двора донеслись чьи–то крики. Хлопнул одинокий выстрел. Это солдаты разоружали конвой атамана.
Главе VIII
В садах наливаются медовым соком оранжевые абрикосы, а ветви вишняка, словно крупными каплями крови, усеяны спелыми ягодами.
Сидя на опрокинутом бочонке, Григорий Петрович починял шлею.
Из конюшни донесся топот и пронзительный визг лошадей. Григорий Петрович, бросив шлею на землю, вскочил.
— Еще, чего доброго, других коней покалечит, чертяка скаженный, — сердито пробормотал он, скрываясь за дверью конюшни. И вскоре снова появился во дворе, ведя в поводу вороного рослого жеребца с короткой блестящей шерстью. Его вздрагивающие тонкие ноздри жадно хватали свежий утренний воздух.
Всхрапывая, жеребец вскинулся на дыбы, затем, злобно мотнув головой, вырвался из рук испуганного Григория Петровича и понесся по огороду.
— Ишь ты! — изумленно протянул старик, с сожалением глядя, как жеребец безжалостно вытаптывал грядки.
На пороге хаты, потягиваясь, появился Андрей. Увидев растерянную фигуру отца, он быстро сунул в рот пальцы. Раздался резкий разбойный свист. Жеребец уже собирался перемахнуть через забор на улицу, но, услышав свист, остановился. Маленькие уши его, прижатые назад, настороженно зашевелились. Он вскинул задними ногами и помчался к дому.
Казалось, что жеребец обязательно собьет с ног идущего к нему навстречу Андрея. Но, к удивлению Григория Петровича, доскакав до хозяина, конь ласково ткнулся в протянутую руку.
Взяв жеребца за гриву, Андрей подвел его к отцу:
Младший урядник Семенной! Два наряда за то, что
упустил лошадь! — И, глядя в растерянное лицо отца, крикнул:
— Как стоишь! Смир–р–рр–но–о–о!
Григорий Петрович, оторопев, вытянулся, а правая рука его сама невольно поднялась кверху, сгибаясь в локте.
Андрей, не выдержав, расхохотался:
— Ну и здорово же вас, батя, муштровали, если досе помните.
Григорий Петрович обиженно пробормотал:
— Когда б тебе десятка два раз морду в кровь били, так и ты добре… запомнил бы. А за коня от матери обоим попадет — вон, гляди, как он, собачья душа, помидоры повытолок.
И, сердито глядя на жеребца, Григорий Петрович потянул его за недоуздок. Жеребец, почувствовав себя снова в чужих руках, злобно оскалил зубы, взвился на дыбы, махая над головой Григория Петровича ногами, словно выточенными из черного мрамора. Старик испуганно отскочил в сторону:
— Хай ему бис! Привязывай его сам! Еще, чего доброго, на старости лет кости переломает.
— Стоять!
Голос Андрея лязгнул металлом. Жеребец присмирел. Косясь на хозяина огненным глазом, он тихонько греб землю копытом. Привязав его к дрогам, Андрей принес из конюшни щетку, засучил рукава сорочки и подошел к жеребцу.
Григорий Петрович присел на бочонок, с удовольствием поглядывая, как быстро мелькала щетка в ловких руках сына.
— Кто у нас, батя, атаманит?
— Коваленко выбрали, — нехотя проговорил старик, осматривая ушивальник.
— Это какого — хорунжего Коваленко?
— Его самого.
— А партии у вас есть?
— Это чего? — Григорий Петрович удивленно посмотрел на сына.
— Ну, митинги в станице бывают?
Старик насупился:
Не хожу я на митинги. Времени нету.
— Ну хоть раз–то были? — Андрей перестал махать щеткой и вопросительно поглядел на отца.
— Да раз был, как аптекарь речь держал.
— Ну и что ж?
— Да что… Всё — дезертиры, да фронт, да до победного конца… Слушал–слушал, а потом плюнул, да и пошел до дому. Еще какие–то большаки объявились. Люди кажут, что они Вильгельмовы шпиены.
Андрей внимательно посмотрел на отца:
— А вы, батя, как думаете?
— А бис их разберет. Сергеева знаешь?
— Это портной, что ли?
— Он самый. Ну, так вот люди кажут, что он большак и есть. Говорит, «войну надо кончать». Ну, известно, война каждому обрыдла — вот народ и прислухается…