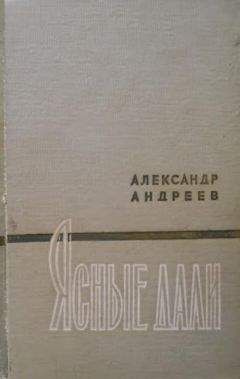— Помнишь, Виктор, что говорил нам учитель Тимофей Евстигнеевич Папоротников? Лучшие люди земли на протяжении столетий боролись за свободу, бесстрашно шли на костер. Они ее завоевали ценой многих жизней и нам завещали стоять за нее насмерть. Решается судьба всего человечества! Неужели ты смиришься с участью раба, с участью водовозной клячи?!
Фургонов, повернув голову, блеснул глазом:
— Хорошо рассуждать так, сидя на поляночке, при звездах! Свобода, счастье, герои!.. А если ты бежишь, как заяц, с душой в пятках, до рассуждений тут? Человечество! Эх ты, романтик чертов! — Он сплюнул сердито и полез в карман за табаком.
Я усмехнулся:
— По росту, по комплекции ты, по крайней мере, лев. Я всегда так и думал. А ты, оказывается, заяц. Не обидно?
— Обидно!.. — Фургонов хмыкнул презрительно и щелкнул зажигалкой; брызнули голубые искорки, но фитилек не зажегся: кончился бензин. Зажигалку сунул в карман, а папиросу заложил за ухо. — Не куришь ведь?.. — Опять сокрушенно вздохнул: — Когда тебя с размаху оглоушат по башке, забудешь, в какую шкуру рядиться: в львиную или в заячью. Навалился он, проклятый, всей своей сталью, — поди выстой.
— А надо выстоять, Виктор, — сказал я, положив руку на его склоненную просторную спину. — Сталь, что и говорить, вещь прочная. Но ее можно разбить, сломать, расплавить. А дух человеческий не расплавишь, нет! Он крепче стали! Иначе не собралось бы здесь за какую-то неделю-другую больше тысячи человек, — потому что крепче стали. И еще подойдут: дух не позволяет мириться, призывает к действию, к борьбе!..
Фургонов вскинулся, развернул широченную грудь — ворот гимнастерки расстегнут.
— В нашей дивизии комиссаром, знаешь, кто? Сергей Петрович Дубровин.
Известие меня не удивило, я был уверен, что Сергей Петрович в такой критический час не засидится в тылу.
— Где она, дивизия? — спросил я спокойно. — Разбита?
— Поколотили ее здорово, но она не развалилась, не рассыпалась. — Фургонов усмехнулся с иронией. — Этот самый «стальной дух» помешал… Идет с боями тут где-то… Наш взвод отрезали от нее, как ломоть от каравая. Многих побило. Я и еще шесть человек со мной на вас вот наткнулись…
Он опять, облокотившись на колени, уронил голову, помолчал, прислушиваясь к жизни на поляне: возле тракторов звенел ключами артиллерист Бурмистров, и розовый кружок света от фонарика перекатывался по бокам машины; на крылечке Прокофий Чертыханов переговаривался с часовым и Васей Ежиком; на другом конце Оня Свидлер, загоняя подводы в лес, на кого-то строго, но беззлобно покрикивал; сзади нас лениво хрюкали свиньи и тоненько вскрикивали во сне козлята, загнанные на ночь на огород, — от капустных вилков и грядок моркови остались одни кочаны и ямы; всюду бесшумно скользили темные человеческие тени, звучали приглушенные голоса и изредка звонкое, тревожное, ломкое ржание жеребенка…
— Одного боюсь, — заговорил Фургонов после долгого раздумья, — удастся вырваться к своим — затаскают: как да почему попал в окружение?..
— В окружении тот, кто сложил перед врагом оружие, — сказал я убежденно. — Я никогда не был и не буду в окружении. Запомни это, пожалуйста.
— Да? — Фургонов решительно, рывком встал. — Ну ладно… Не уйду я. Спать хочу ужас как… Иди. Нет, постой. Зря ты меня бил при бойцах… Я помкомвзводом был, старший сержант я… — Он вдруг как-то сложился весь, рухнул на землю, растянулся вдоль бревна, на котором мы сидели, и натянул на лицо полу шинели.
6На рассвете капитан Волтузин привел остатки своего батальона — тридцать шесть человек. Волтузин чем-то напоминал клин: плечи мощные, широкие, борцовские, таз узенький и коротенькие, с маленькими ступнями ноги; крупная, совершенно круглая, бритая голова обросла возле ушей реденькой рыжеватой щетинкой; загорелая лысина отполированно поблескивала. И странно, непривычно было видеть его, веселого, громкого, смеющегося, среди нас, настороженных, как бы оглушенных обстановкой особой, лесной жизни… По совету полковника Казаринова я назначил Волтузина командиром батальона, присоединив к его бойцам две наши роты.
— Слушаюсь, мой лейтенант! — с живостью отозвался он, и в смеющихся глазах его блеснуло что-то озорное, неунывающее. Я не мог не улыбнуться его непривычному, бравому ответу. — Об одном буду просить вас, мой лейтенант: не требуйте от меня инициативы. Приказы буду выполнять с точностью, не пожалею своей ничтожной жизни. Но с инициативой у меня полный конфуз. Очевидно, мамаша при моем рождении позабыла наградить меня столь необходимым свойством. И вообще, лейтенант, наши мамы выпускают нас на свет не совсем качественными. Вырастая, мы начинаем замечать, что одному недостает красоты и обаяния, у другого совершенно не развито мужество, незаменимое в обиходе, третий не досчитывается в мозгу нескольких извилин, четвертый прозябает от бесталанности… Эти пустоты, белые пятна со временем заполняются отвратительными свойствами — трусостью, завистью, безынициативностью… Я подозреваю, что инициативу свою я растратил в юности во время чтения книг о героях: все свои догадки и предположения я отдал благородным рыцарям, себе ничего и не осталось… Так что не обессудьте, мой лейтенант.
Мне нравился этот говорливый, неукротимо деятельный человек.
— Я думаю, вы наговариваете на себя, товарищ капитан…
— Ошибаетесь, — быстро возразил Волтузин и громко засмеялся. — Ошибаться в людях — тоже недостаток от рождения.
Возле нас стоял Чертыханов, и незаметно приблизился Вася Ежик, оставив коз и свиней на очкастого красноармейца. Прокофий смотрел на кругленького, подвижного капитана почти восторженно: он любил веселых, неунывающих людей.
— Разрешите заметить капитану, товарищ лейтенант? — Волтузин живо, на каблуках крутанулся к Чертыханову. — Вы ходите без головного убора, товарищ капитан, солнце выжгло инициативу, как по нотам, а волосы ветром сдуло.
— Возможно, что и так, ефрейтор. — Волтузин взглянул на лобастую, обросшую густой и жесткой щетиной голову Прокофия с пилоткой на затылке, усмехнулся. — Запомните, ефрейтор, что обильная растительность густо встает лишь на навозной почве.
Чертыханов захлопал белыми ресницами и наморщил картошистый нос, словно понюхал что-то острое. Ежик присел, взвизгивая от смеха. Прокофий рассердился.
— Васька! Выпорю. Ты над кем смеешься? — И, делая вид, что гонится за Ежиком, откатился от нас.
— Инициатива — дело наживное, — сказал я Волтузину. — Обстановка сама продиктует решение.
— Добрые начала в человеке суть часть таланта, а талант не наживается, — не соглашался капитан. — Я исполнитель. Во время войны точное исполнение воли командира — тоже ведь качество неплохое. Этим и утешаюсь.
Едва успел капитан Волтузин прибыть на свой командный пункт, как от него прибежал связной с донесением: по полевой дороге прямо в расположение одной из его рот шли четыре вражеских грузовика с солдатами. Комбат спрашивал, что делать. Но пока связной бежал в штаб, машины, ревя моторами, буксуя на обрызганных утренним дождем колеях, вошли в лес. Деревья зазвенели от винтовочных, автоматных выстрелов, от гулких хлопков гранат. Я невольно улыбнулся, прислушиваясь к внезапно вспыхнувшей перестрелке: Волтузину пришлось проявить инициативу… Минут через десять стрельба оборвалась. Стало опять тихо и настороженно в лесу, понизу потянуло тонким, пронзительным пороховым дымком. От капитана примчался новый гонец, запыхавшийся и возбужденный: убито одиннадцать гитлеровских солдат, четверо бежали, скрывшись от преследования в заросшем кустами овраге, машины с материалами для переправ через водные преграды получили повреждения от гранат, один наш боец убит, трое ранено…
Я попросил Раису Филипповну отправиться вместе со связным в батальон и оказать раненым помощь. Мирная лесная жизнь наша кончена, мы раскрыты, и необходимо готовиться к предстоящим испытаниям.
Часа через два ветер рывками потрепал вершины берез и сосен, оторвал от них плотные мглистые облака и выбросил их вверх; высушенные до необыкновенной, парашютной белизны, они разломились, открыв сквозную синеву неба. Среди этого множества раскрытых колышущихся облачных парашютов и появился разведывательный немецкий самолет «рама». Он как бы неторопливо купался в синеве, поблескивая на солнце чеканным серебром крыльев, прошивал тишину тонким, добирающимся до самой души зудом. Как знаком был нам этот вибрирующий, едучий зуд! Я стоял в палисадничке возле окна дома, среди высоких разноцветных ромашек, и следил, как над нами неторопливо плавал разведчик.
— Засечет он нас, товарищ лейтенант, как пить дать. — Чертыханов стоял за моим плечом. — Это первая ласточка… Надо бы костры-то залить…
Повара готовили пищу, и над острыми пиками елей пышными сиреневыми букетами цвели дымки. Лейтенант Стоюнин сбежал с крылечка, бледность щек выдавала его тревогу; он заложил большие пальцы за ремни снаряжения, кинул косой взгляд на «раму» и позвал Оню Свидлера: