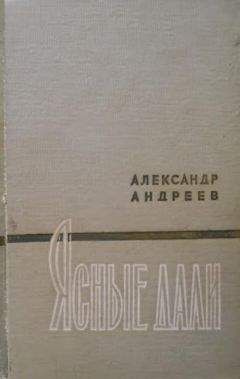Мы прошлись вдоль дороги. Сбоку выстроились в ровный ряд высокие сосны, словно медные, туго натянутые струны; казалось, тронь их — и по лесу разольется низкий мелодичный звон.
— Тишина какая, лейтенант, — проговорил Волтузин, — мудрая, почти таинственная… Что для нее взрывы? Камень, брошенный в океан… Дым рассеется, звуки смолкнут, тишина победит… Знаете, я только сегодня осмыслил одну вещь: Ахиллес, герой гомеровского эпоса, был непобедим оттого, что на нем была стальная кольчуга. А кольчуги в то время ковались только у нас, в Керчи. Ахиллес был тавро-скифским вождем, славянским богатырем… И мы, выходит, его потомки…
Ты, Ахиллес, о, любимец Зевеса, велишь разгадать
Гнев Аполлона-владыки, далеко разящего бога…
прочитал я, вспомнив строку из «Илиады». И Волтузин тотчас подхватил:
Если один Ахиллес на Троян устремится, ни мига
В поле не выдержать им Эакидова бурного сына…
Мирной свежестью и теплом повеяло от этих напевно и высокопарно прозвучавших гекзаметров; они как бы резче подчеркнули трагичность нашего положения. Я не стал вдаваться в подробности и оспаривать странное и, должно быть, неверное открытие Волтузина. Я только отметил, что капитан был в мыслях своих далек от войны, от боев, от убийств. И сражался он оттого, что хотел отстоять право мыслить, право делать странные, спорные выводы.
Мимо нас два бойца пронесли на палке жестяной бак с водой.
— Имейте в виду, капитан, — напомнил я комбату, — пищу готовить только ночью. И чтобы поменьше было видно пламя.
— Шибко образованный этот капитан, — не без уважительности сказал Чертыханов, когда мы простились с Волтузиным. — Учеными словами сыплет, точно горохом.
Я промолчал. Бодрое, боевое настроение бойцов, готовых в любую минуту сняться и двинуться в путь, вступить в сражение, не уменьшило во мне саднящего, незатихающего беспокойства: прошло трое суток, а группа Щукина все еще не возвращалась.
Нет, находиться в действии, в деле, конечно, опаснее, но безусловно спокойнее — не до раздумий! — чем вот так, послав людей на задание, буквально сохнуть в ожидании от предположений, от догадок.
— Они, я думаю, товарищ лейтенант, далеко закатились, — угадав мои размышления, проговорил Чертыханов утешающим тоном и, понукая лошадь, подъехал ко мне, коленкой своей толкнул мою коленку. — Черти ведь! Рисковые! В запале ушли как по волчьему следу, а на дороге всякое бывает — встречи, проводы: одних угостить тем, что в руках имеется, других поздравить с прибытием на нашу землю. А гитлеровцы, само собой, ответят на поздравления… Вот и задержка!.. Однажды покойный капитан Суворов приказал мне на минутку в роту слетать: одна нога здесь, другая там. Сколько я шел? До вечера. Завидел меня вражеский летчик, как начал гоняться, да как начал меня посыпать свинцовым дождем! Я сперва отвечал ему тем же — очередями из автомата. Патроны кончились, камнями стал швырять. А фриц, зараза, свесил рожу через борт, смеется на меня. И уже не стреляет: видно, тоже заряды кончились. Но только снизится — вот-вот пилотку с головы сорвет, проклятый, — я бух в борозду, лежу. Машина проревет над головой, уйдет, я опять встаю, бегу. А летчик опять на меня пикирует. И так несколько раз. И доигрался. Пружинка, видно, какая-то лопнула, и самолет врезался в землю, как по нотам!.. Там ему и место… И у разведчиков могло случиться что-нибудь в том же роде… Придут.
Щукин вернулся на рассвете. Он привез с собой обоз, отбитый у немцев на дороге. Пустынная поляна вдруг ожила: бойцы окружили подводы с трофеями, награждали разведчиков поощрительными, увесистыми хлопками по плечам. В синих, глубоко запавших глазах политрука появилось что-то жесткое, в сдержанных движениях — порывистое, резкое. Он скупо улыбнулся, сжимая мне руку.
— Вы как тут? Уцелели? Думал, что после такой бомбежки от вас один прах остался.
Рослые рыжие лошади с куцыми хвостами и впалыми боками, устало пофыркивая, тянулись к траве. Вдоль обоза патрулировал с автоматом наготове воодушевленный Чертыханов, грозно осаживал любопытных:
— Товарищи, не суйтесь! Отступите не меньше как на пять шагов!
Оня Свидлер был уже тут; он распределял по батальонам мешки с круглыми шоколадными плитками, завернутыми в скрипучий целлофан, ящики с сигаретами, с бутербродами, с рыбными консервами.
Четверо бойцов снимали с подводы массивное, огромной тяжести зубоврачебное кресло, металлическое, с красным бархатным сиденьем и красными подлокотниками и подзатыльником.
— Зачем оно? — Я удивленно рассмеялся, указывая на кресло.
Щукин, скупо улыбаясь, пожал плечами.
— Может, пригодится. — Он пристально и как-то сочувствующе посмотрел на меня, кивнул головой в сторону подводы. — Пойди взгляни. Там дружок твой…
На одном из возов, на предпоследнем, под присмотром сержанта Кочетовского сидели двое пленных со связанными руками: майор и обер-лейтенант. Они посмотрели на меня бледными, застывшими в ненависти и недоумении глазами и отвернулись.
А в последней повозке, стоявшей в лесу, среди раненых бойцов я сразу увидел человека в гражданской одежде. Это был Никита Добров, я узнал его со спины. Но что такое?! Голова на его плечах была как будто чужая, по-стариковски седая. Я не поверил своим глазам. Голова эта потрясла меня.
— Седой!.. — невольно и с болью вырвалось у меня. — Никита, почему ты седой?
— Война, Дима, — ответил он и поморщился, поворачиваясь, чтобы слезть с повозки; плечо его и грудь были обмотаны белой запыленной тряпкой, видимо, разорванной нижней рубашкой; кровь, пропитавшая ткань, запеклась темными лепешками.
Я усадил его на пень и крикнул Чертыханову:
— Позови Раису Филипповну!
Никита прикрыл свои синие, смертельно уставшие глаза.
— Ох, Дима, — произнес он и глубоко-глубоко вздохнул. — Погоди, сейчас расскажу… Только закурю.
8Никита Добров почти на четвереньках пролез в шалашик и молча присел у входа. Филипп Иванович Сковородников созвал всех командиров взводов. Сложив по-турецки ноги, он сидел на увядших березовых ветках, накрытых мешковиной, и, склонив голову, изучал карту; в зеленоватом сумраке тускло белела его широкая лысина. Мамлеев, пристроившись сбоку, тоже заглядывал в разложенный на коленях командира отряда лист.
— Так что же, товарищи… — Филипп Иванович приподнял лицо, хмурое, немного обрюзгшее, утомленное, наплывы под глазами обозначились резче. — Огляделись, отдохнули — пора и честь знать. А то негоже получается… Немцы прут, не оглядываясь, и по земле, и по воздуху, и по рельсам, а мы им никакого препятствия не оказываем. Эдак всю кампанию просидеть можно. В войсках да и в народе, небось, думают, что мы тут партизаним вовсю… — Филипп Иванович выпрямил спину, провел ладонью по карте и произнес со сдержанным волнением (впервые принимал боевое решение): — Мы вот с товарищем Мамлеевым взялись испробовать свои силы, на что годимся… Посылаем нынче три группы. Одна пойдет на большак… Ты, Василий, пойдешь. Слышишь, Свищев?
— Слышу, Филипп Иванович, — отозвался немолодой коренастый мужчина в малахае.
— С тобой пойдет товарищ Мамлеев. Другая группа — тут всем взводом надо двигаться — сделает налет на гарнизон в деревне Коржи. Там тыловики задержались. Тут ты, Константин, пощупаешь, густо или жидко. И я пойду с твоим взводом… Третья группа выйдет на железную дорогу, на перегон, где стоит под откосом разбитый состав. Поезда проходят каждый час на Ельню, на Смоленск, к месту боев. Это на твою долю, Никита. Подбери ребят, этого новенького, окруженца возьми, проверь в деле… При отступлении, при погоне — по-всякому может обернуться — сюда не идите, уводите неприятеля в сторону, заметайте следы. А не то разобьют наше гнездо — не оправишься. Действуйте решительнее. Немцы пока не пуганы, даже не догадываются, что для них готовится. Это нам на руку. И ночка нам поможет, она за нас. Ну, с богом.
Нина Сокол увидела Никиту, когда он вынырнул из шалаша, и рванулась ему навстречу. Не дойдя трех шагов, остановилась, напряженная и ожидающая. Никита попробовал сделать вид, будто в шалаше ничего не произошло, и двинулся мимо. Нина решительно дернула его за рукав.
— Вот что, Никита, — заговорила она строго, — я не ребенок. Мне не нужна твоя отеческая опека. Я такой же боец, как все, скидки меня унижают. Вот! Я пойду с тобой.
Никита внимательно и, казалось, с раздражением взглянул на девушку. Платок, повязанный под шейку, с конечном над лбом, мальчишечий пиджак, подпоясанный ремнем, штаны, заправленные в сапоги, и оружие, так непривычно выглядевшее на ней, неузнаваемо преобразили ее; от прежней, мечтательной Нины остались разве одни глаза, продолговатые и темные под черными смелыми стрелами бровей. В ней появилось что-то вызывающее и непреклонное. Никита вдруг повеселел: