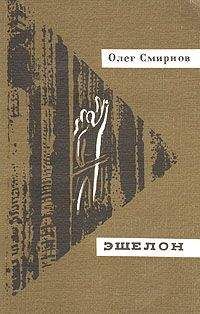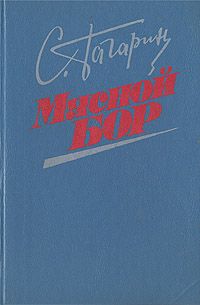— Я надеюсь на тебя, майор. Иди, и всяческих тебе успехов.
— Слушаюсь, товарищ генерал! — И Филипенко с такой силой вскинул руку и так повернулся, что от него ударил ветер и заворошил на столе генерала бумаги.
— И ты, полковник, свободен. Перед началом я все— таки приеду к тебе. Пришли за мной провожатого.
Невдолге перед атакой командующий действительно приехал на наблюдательный пункт командира Камской дивизии. Окопчик для обозрения поля боя был вырыт на опушке рощи, и полковник Заварухин стал рассказывать командующему, что полк майора Филипенко развернут и выдвинут на исходные рубежи чуть левее НП, и когда рассветет, станут хорошо видны его действия.
Дождь заметно слабел, но со стороны поля тянуло остывшим простором; сыро шумели деревья и осыпали крупную, увесистую капель. Заварухин только что вернулся от Филипенко, шел по высокой траве и до того вымок, что хлюпало в сапогах и мокрые брюки, как путы, жестко вязали шаг. Сейчас, разговаривая с командующим, Заварухин не то что мерз, а чувствовал себя зябко и неуютно под гремучей парусиной плащ-накидки.
— До немцев тут километра два, товарищ генерал. Ближе к нам проселок с тополями, а по ту сторону проселка ямы карьера — глину брали для кирпичного завода. На картах и кирпичный завод значится, а на самом деле одни ямы остались. Самого завода уж лет десять, говорят, не существует.
Генерал почему-то все время заслонялся высоким плечом от полковника, и Заварухину от этого не хотелось говорить с ним. Да и вообще хотелось собраться с мыслями. Сегодня разыграется тяжелое сражение, и комдива одолевают давнишние нехорошие предчувствия: встречная атака не принесет нам успеха, потому что попытка Ударной армии в одиночку с промежуточного рубежа выйти на Старую оборону — это неподготовленная и, самое горькое, всего лишь частная операция, которую немцы быстро локализуют и задавят, сомнут. По убеждению Заварухина, сейчас, при подвижном характере фронта, надо бы всеми силами стабилизировать оборону, не расходовать войска на мелких наскоках, а готовить их к единым действиям, в самых широких масштабах. «Растопыренной пятерней бьем, а не кулаком, — думал Заварухин. — Нужны какие-то большие, решительные меры, чтобы они сурово потребовали от нас уж если наступать, так по-настоящему, а обороняться, так со смертельной стойкостью… Не о том думаю, не о том думаю», — осудил себя Заварухин и заволновался, нехорошо чувствуя студеную испарину на мокром лице. Наконец, сердясь на себя и на генерала, отошел в другой конец окопчика, где в нише спал телефонист, страдальчески-сладко постанывая.
— Проспишь все царство, — полковник толкнул солдата, и тот севшим голосом повинился:
— Заводит, товарищ пятый.
— Вызови Филипенко.
Связист — может, за то и ценили человека — с навычной расторопностью вызвал командира полка и подал трубку полковнику.
— Девятка слушает.
— Ты?
— Я.
— Закруглился?
— Уже отправил. Сейчас сам пойду. По темноте, как у христа за пазухой.
— Все по-своему, наперед батьки…
— Тополя вдоль дороги отряхните. А там перевалим.
— Связь держи.
Филипенко не отозвался, и так, не сказав больше друг другу ни слова, кончили разговор. Ретивость Филипенко, его нетерпеливая жажда деятельности сегодня особенно не нравились Заварухину. «Перед генералом бодрится. Ну, погоди, ну, погоди, майор… А ведь у него, бедняги, в Конотопе мать. Разве усидишь?»
— Филипенко пошел, — сказал Заварухин, возвратившись к генералу.
— Как? Уже?
— По темноте расценил.
— И молодец. Хорош, видать, командир. А?
— Да как вам сказать…
— Ну ладно, ладно, полковник. Если он действительно смел да инициативен, долго у тебя не засидится. Это я обещаю.
В тихих проступающих в рассвете полях, в мокром осоте и репейнике на ближних и дальних межевьях, в глинистых размешанных ямах залёг фальшивый покой, будто спало все крепким зоревым сном. А на самом деле в робких намеках нового дня суетно набегало неугаданное и вот-вот должно было вырваться громовым накалом. И…
Ровно в три ноль-ноль дубовая роща, и ямы, и поле, и весь воздух над ними осветились тугой, напряженной вспышкой, и следом рявкнули одним духом десятки орудий и минометов. Там, где таилась немецкая оборона, заплясали взрывы, будто кто-то проснулся там и впопыхах забегал, забегал по легким звонким половицам. Орудийной спевки хватило на два-три залпа, а дальше батареи торопились порознь, частобойно. С северного угла рощи редко и отрывисто хакала какая-то пушка, вероятно небольшого калибра, но трассирующие снаряды ее так резали воздух, что он пронзительно завывал и осыпался искорьем, словно на всем пути горящего снаряда затачивали добротную сталь на свежем наждачном круге. Иногда сквозь треск и немолчный грохот проступало затишье, и тогда было слышно, как гудит наша передовая и слева и справа. В самый разгар артподготовки ударили реактивные минометы и стали насучивать свою огненную пряжу через рощу, через голову морской пехоты, через дорогу с тополями — взрывы густой сыпью обметали всю немецкую сторону, запалили весь горизонт.
Дружный огонь нашей артиллерии вынуждал Заварухина раскаиваться в своих сомнениях, и, когда совсем развиднелось, ободренный наметившимся успехом, он дал танкистам команду: «Вперед!» Генерал, улавливая перемену в настроении комдива, был признателен ему, что полковник не на веру, а через сомнения, но взял его, Березова, сторону. Значит, он, Березов, в своих замыслах и решениях прав и оттого стал совсем строго замкнут, с полковником не разговаривал, на вызовы к телефону не подходил, а только давал короткие приказания через своего адъютанта, молодого майора, исполнительного и усердного от значительности того дела, которое он помогает делать командующему.
Березов неотрывно наблюдал за ходом боя в цейсовский бинокль и скрытно радовался, что интенсивный огонь наших батарей на широком участке фронта, наступление разведывательного полка и, наконец, танковую атаку немцы приняли за начало большого нашего наступления и сразу ввели в бой все свои огневые средства. Этого и ждали наши артиллеристы: они засекали вражеские батареи, пулеметные гнезда, скопление резервов, давили их и до начала общей атаки могли, верно, разрушить всю систему вражеской обороны.
Полк Филипенко был той приманкой, которой жертвовал Березов, и потому к проселку с тополями цепь наступающих подошла наполовину изреженная. Далее продвижение резко замедлилось, потому что полк попал в зону действительного ружейно-пулеметного огня. Солдаты все чаще припадали к земле и подолгу лежали — тут, конечно, сказывалась и усталость. Когда от рощи оторвались наши танки и, захватив все широченное поле, стали догонять пехоту, та совсем залегла: пусть уж сперва железо навалится — ему не так больно.
Перед залегшим полком незнаемая полоса: там мины, истребители танков, бронебойные пушки, и танкисты, жалея машины, притормаживали, не спешили обгонять пехоту. Перед тополями у дороги совсем замялись — два наших танка вспыхнули, заволоклись тяжелым нефтяным дымом. Поблизости не было вражеских орудий — значит, били немцы с дальних позиций после хорошей пристрелки.
Полковник Заварухин бросился к телефону и стал кричать командиру танковой бригады, чтобы тот поторопил своих, а не прятался бы за солдатские спины. Но подошел сам генерал, взял у полковника трубку и со спокойной значимостью сказал противное:
— Я — первый. От пехоты не отрываться, но беречь машины. Ваша задача вся впереди.
Генерал бросил трубку в колени телефониста, а в трубке надрывался далекий, провальный голос: «Слушаюсь, товарищ первый. Я слушаюсь».
Генерал, тыча биноклем в сторону дороги, все так же с угрожающим спокойствием насел на Заварухина:
— Он что, этот твой майор? Он почему положил людей под самым огнем? Не может поднять? Тогда пусть сам покажет пример.
За дорогой вспыхнуло еще два танка. Заварухин не видел этого, так как, сунувшись от шума в нору телефониста, упрашивал Филипенко:
— Дима, Дима. Что там у тебя? Почему залегли? Ну и потери — что же теперь, все бросать? Ты слушай, слушай. Генерал недоволен. Ну полегче, полегче — всяк на своем месте. Давай, Дима, пока молотит артиллерия. Танки пойдут.
Минут через десять правый фланг полка, где был сам майор Филипенко, поднялся и пошел. Из ямок, воронок, бурьяна, из-за кочек и трупов поднялась вся цепь. Пошла. Побежала. Через дорогу переметнулись все танки и стали поджимать пехоту, а вскоре и смешались с нею.
Атака уходила, и в этом заключался ее успех.
А солдаты и танки перевалили гребень большого поля, за которым скрытый по колено стоял лес. На гребне и по ту сторону его еще задымило пять костров густо, черно.
Генерал Березов видел, как наши снаряды ломали и корежили лес, радовался, что немцы в лесу долго не задержатся — поражаемость от рвущихся вверху снарядов губительна. Командующий все время наблюдал за атакой и жил атакой, связывая с нею всю свою жизнь. Занятый этим главным делом, он просмотрел, что на поле боя горело уже двенадцать наших танков. Значит, у немцев хорошо организована противотанковая оборона. Он еще раз пересчитал дымившие огнища и не верил им — горевшие наши танки еще не заслоняли явно наметившегося успеха дерзкой операции, но у генерала вдруг глубоко заныло сердце: он первый раз неприятно ощутил его в своей груди.
— Полковник, поднимай!