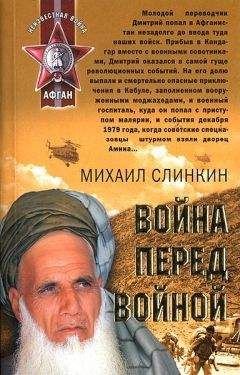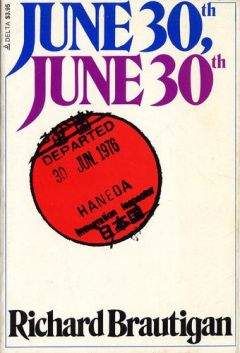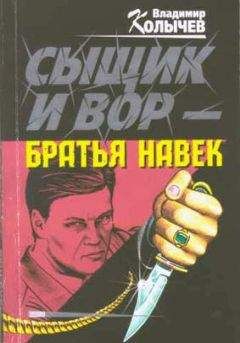— Ты почему не пьешь лекарства? — спросила Наргис, взяв с тумбочки непочатую упаковку аспирина и теребя ее в руках.
— Уже не нужно. Температура упала, приступ закончился. А если завтра диагноз, малярия, подтвердится, то назначат другие препараты. Наверное, хинин или…
— Дима! — перебила Наргис. — Тебя хотят убить!
— Кто же? — удивился Дмитрий.
— Солдаты-пуштуны. Пустили слух, что ты пакистанский шпион. Таджики и узбеки говорят, что ты — советский переводчик, но они не верят. Зачем, мол, тогда его так охраняют. Что делать, Дима? — помолчала и ответила сама: — Нужно сказать мужу. Больше некому. Он сегодня старший в госпитале.
— Нет, сама не говори ему, — попросил Дмитрий и подумал: «Ну, вот и хорошо. Все, оказывается, объясняется просто. Главврач! Он, конечно, не подстрекал никого на убийство, но вот чтобы больные приглядывали за мной повнимательнее, и сболтнул ненароком про пакистанского шпиона. А остальное — это уже солдатская инициатива».
Дмитрий вынул градусник и подал его Наргис. Она автоматически посмотрела на его показания и повторила вопрос:
— Что делать, Дима?
— Ничего. Главное, не бойся, — ответил Дмитрий. — Сегодня они этого не сделают.
— Почему?
— Твой муж не позволит. Он уже все знает, но ему не нужны неприятности на дежурстве. А завтра меня здесь не будет.
— Но что-то же нужно делать, ведь вся ночь еще впереди, — продолжала настаивать Наргис.
— Нет, тебе ничего делать не нужно. Я спать пока не буду, а в следующую смену, с нулей до четырех, заступает часовой-таджик. У меня с ним хорошие отношения. Попрошу его, если что, выстрелит в воздух, враги и разбегутся, — улыбнулся Дмитрий, сам не веря в то, что сказал. Помолчал и добавил: — Уже почти полночь, Наргис! Тебе отдыхать пора. А завтра все уладится. Вот увидишь! Зайдешь ко мне утром ставить градусник и убедишься, что я жив и, главное, здоров.
Наргис, видимо, чувствовала, что и ее внимание к Дмитрию не осталось незамеченным и сыграло какую-то роль в том, что среди солдат началось непонятное брожение, готовое перерасти если не в агрессию, то по меньшей мере в открытое выражение недовольства по отношению к непонятному пациенту. Это чувство, осознаваемое интуитивно, по-женски, и продолжало удерживать ее в палате Дмитрия для того, чтобы сразу, как того обычно хочется детям, а она и являлась еще почти ребенком, найти выход из сложной ситуации, в которой была, возможно, и ее вина. Но, признавая за мужчиной право принимать решения, ведь иного на Востоке не дано, Наргис после слов Дмитрия покорно встала, записала показания градусника и направилась к выходу. У дверей обернулась и сказала принятую в Афганистане в качестве прощания фразу: «Храни бог!» — сказала раздельно, вкладывая в нее изначальный смысл этого словосочетания.
После ухода Наргис Дмитрий закурил и пересчитал оставшиеся сигареты и спички — хватит ли, чтобы на всякий случай протянуть ночь без сна. Сигарет было семь штук, спичек — с десяток.
«Мало, конечно, для полного спокойствия. Нужно было, — подумал, — еще днем выяснить, есть ли в госпитале контин.[17] Да, сигарет мало, но как говорят: „Нет худа без добра“. Будет с чего начать разговор с таджиком, когда тот заступит на пост у дверей палаты».
Дмитрий заглянул в тумбочку. Пусто. Лишь на тумбочке тяжелый графин с водой. Стакан и пепельница не в счет.
«Не густо. Если вдруг солдаты обзаведутся вожаком и решатся выместить на нем свою злобу, отбиваться нечем. Может, просто сбежать? — задал сам себе вопрос. Приступ ушел, осталась лишь небольшая слабость. — Ну, за ворота госпиталя я, положим, выйду. А дальше? С десяти комендантский час. Документов нет, машин нет. Одни патрули. До аэропорта тридцать километров. Или можно в полк, туда всего километров пять. В больничной робе? Нет, на подходе к КПП просто пристрелят, а уж потом будут разбираться, что почем. Жизнь человеческая здесь обесценилась очень быстро, а может, и раньше стоила недорого». Вспомнилась почему-то ночь, проведенная в резиденции генерал-губернатора.
Той ночью не давали спать комары и москиты, пробравшиеся в комнату, несмотря на сетку на окне. Да и в резиденции спали не все: то и дело подъезжали машины, шелестя шинами по мелкому гравию дорожек, на крыльцо группами и поодиночке поднимались люди, иногда до слуха долетали резкие команды на пушту. Поэтому еще до рассвета пришлось распрощаться с надеждой выспаться и идти умываться. Накинув на шею полотенце, Дмитрий вышел из комнаты и остановился: напротив двери спокойно, даже расслабленно, стоял бородатый пуштун в богато расшитой жилетке, дополнявшей традиционные пирохан-о-патлун и чалму. Когда Дмитрий вежливо сказал: «Салам!» — здороваясь, на лице пуштуна отразилось такое удивление, что Дмитрию подумалось, не раздетый ли он выскочил из комнаты.
Удивленный, в свою очередь, неожиданной реакцией афганца, Дмитрий осмотрелся. Сумрачный коридор был заполнен людьми, задержанными в течение ночи: одни сидели на корточках, другие стояли с безучастным видом, прислонившись к стенам. Между ними расхаживал один-единственный часовой. Открылась дверь кабинета контрразведчика: оттуда вышел афганец. Часовой пнул ногой очередного, произвольно выбранного задержанного и кивком указал ему на дверь. Тот поднялся и без видимого волнения, не торопясь, направился между соотечественниками в кабинет.
Дмитрий, стараясь, по возможности, не обращать на себя излишнего внимания, двинулся к уборной. Афганцы равнодушно скользили по нему взглядами: ни страха, ни безнадежности, ни даже малейшего волнения, которое, казалось, можно было бы испытывать в такой ситуации, в них не сквозило.
Люди, задержанные ночью, принадлежали к самым разным слоям кандагарского общества. Вот состоятельный врач или инженер: бритое лицо, очки в золотой оправе, кроме пирохан-о-патлун, на нем пиджак из дорогой английской шерсти с торчащей из нагрудного кармана китайской ручкой. Вот мулла в белоснежной чалме, сидя на корточках, шевелит губами и теребит четки, отсчитывая молитвы. Вот кандагарские гуляки и уличные хулиганы, которых называют «какб» — дядя: бесшабашные лица, шали из дорогой материи, только за поясами пусто — непременные кинжалы у них, очевидно, отобрали при задержании. Вот землевладелец-феодал с жестким, властным выражением лица в накинутом на плечи туркменском халате с длинными, до колен, рукавами; он даже в таком положении не может позволить себе опустить взгляд, стоит со сложенными на груди руками и гордо смотрит поверх голов. Вот торговцы с желтыми, одутловатыми лицами, явно указывающими на их род занятий, связанный с долгим, по двенадцать-четырнадцать часов в день, сидением в лавках. Та группа, сбившаяся в кучу в конце коридора — крестьяне, судя по натруженным рукам и лицам, прикопченным солнцем во время ежедневных, с утра до ночи, работ на дающих несколько урожаев в год пригородных огородах. А эти трое, оборванные и грязные, с пожелтевшими белками глаз и редкими черными зубами, — опустившиеся курильщики терьяка,[18] не способные думать уже ни о чем, кроме очередной порции наркотика.
Дмитрий добрался наконец до уборной в конце коридора. Умылся и вышел на веранду с противоположной комнате стороны. Вновь пробираться через толпу задержанных не хотелось. На веранде скучал молодой комбат с пистолетом за поясом, видно, из тех быстро пошедших в гору партийцев с небольшим дореволюционным стажем, которых, несмотря на отсутствие какого-либо командного опыта, энергично двигали по служебной лестнице, заменяя старых «неблагонадежных» командиров на «преданных борцов». Пистолет за поясом, а не в кобуре — тоже примета времени. Оружие, дающее власть, должно быть на виду. Дмитрий достал сигареты и протянул открытую пачку лейтенанту. Тот поблагодарил, но полез в карман за своими, как оказалось, американскими «L&M».
— Нравятся? — спросил Дмитрий, кивая на бело-красную пачку.
— Почему нет? — улыбнулся лейтенант. — Табак хороший, и название наше — «Ленинизм-марксизм». Партийные сигареты.
«Шутит или в самом деле считает эти сигареты „партийными“?» — засомневался Дмитрий, но уточнять не стал. Хотя он и раньше с недоумением замечал, что многие офицеры сразу после апрельского переворота неожиданно сменили пристрастия и перешли с «Винстона» и «Кэмела» на «L&M».
— Задержанных сегодня много, — закурив, сказал Дмитрий, чтобы поддержать разговор.
— Нет, как обычно, — ответил лейтенант, затягиваясь «партийной» сигаретой. — Хотя бывает и больше, так, что места в коридоре не хватает.
— Куда их потом? Отпускаете?
— Всяко бывает. Отпускаем некоторых, тех, кто случайно попались, скажем, нарушили комендантский час, как те трудяги, которые сегодня поперлись на поля затемно. — Лейтенант говорил, указывая на сгрудившихся в коридоре у выхода на веранду крестьян. — Но таких мало. Остальные — враги нашей власти, «братья шайтана», бандиты и просто уголовники.