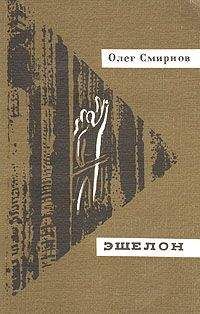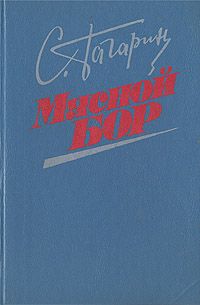— Я бы сказал, товарищ подполковник, не боятся. А может, и боятся. Кто скажет. Наверно, кто как.
— А ты?
— Боязно, но надо.
— Обтекаемо как-то говоришь. Ну ладно, иди.
«Вот тут все: нет-нет и толкнется, — в стуке колес громко и неотвязно слышался голос Шуры, а чуть смежались веки и притухали мысли, явственно чудилось, как Шура брала своей рукой его руку и прижимала ее к своему животу. — Бабы говорят, если тут толкнулся на четвертый месяц — мальчик». — «Гришкой назови, Шура», — просил Николай и почему-то вздрагивал, пробуждался, а пробудившись, снова вспоминал под стук колес: «Как мы теперь, Коля?» — «Муж и жена — вот как. Мне теперь, Шура, все нипочем»…
— Слушай, ты, — толкнул Торохин Охватова, — что ты все подстанываешь? Болеешь, что ли?
— Да нет вроде. Так это. Как станет задремно — жена вот она, перед глазами. У меня такое дело, слышь?
И Охватов, обрадовавшись, что есть с кем поделиться мыслями, взялся охотно рассказывать Торохину о том, как приехала к нему его девушка, как искала его два дня и нашла, как встретила, обрадовалась ему, как он обрадовался и по-ребячьи кувыркался через голову, узнав, что она беременна, как договорились снова увидеться и как он хотел предупредить ее об отъезде, но наскочил на патрульных.
— Имей, парень, такую жену, и ничего тебе больше в жизни не надо, — сказал Торохин, выслушав до конца рассказ Охватова. — Моя б ни в жизнь не поехала. Поедет она тебе — держи карман шире.
Кряхтя и вздыхая, Торохин достал откуда-то из угла жестяную коробочку, до блеска отшлифованную в кармане, постучал по мятой крышке твердым пальцем, открыл ее: внутри, поверх табака, лежала стопочка газетной бумаги, заботливо нарезанной на небольшие завертки. Торохин не спеша скрутил убористую цигарку, послюнил ее языком, подал банку Охватову. Прикурили от одной спички.
На улице уже давно ободнело, кто-то откатил дверь на всю ширину, и под нарами стало светло. Охватов видел конопатое, сдавленное в скулах и оттого острое лицо Торохина с умными осторожными глазами.
— Хороший вы материалец — ни с какого боку не подпорченный, — между затяжками проговорил Торохин, — Ничего не видели, ни хрена не знаете. Немца вам покажут — и будете стрелять.
— Будем, — согласился Охватов. — А ты?
Не сразу заговорил Торохин. Постукал твердым пальцем по крышке коробки, открыл ее, закрыл.
— Видишь ли, Охватов, я давненько приглядываюсь к тебе и думаю, не ошибусь, ежели немного доверюсь.
«Плюснин, гад, тоже вот так начинал, — вспомнил Охватов. — То ли уж и в самом деле у меня морда уголовника?..»
— Если жалеть меня собрался, то я не пойму тебя, — сказал Охватов на коротком вздохе.
— Черт тебя жалей. Понял? У меня была жалость, да вся ужалась. Я так пожалею, что твоими костями в бабки можно будет играть. А вообще я не злой. Понимаешь ли, Охватов, обидели меня… Да не поймешь ты. Хотел поговорить, да, вижу, без толку. Салага еще ты.
«Салага и есть, — осудил сам себя Охватов. — Человек со мной как с равным, а я ему заслон. Этот же не Плюснин широкорожий…»
И вспомнился Охватову такой случай. Как-то в обед Кашин, постоянно разливающий суи из отделенного бачка по мискам, не утерпел и в свою миску зачерпнул со дна. Боец Глушков потребовал от Кашина обменяться мисками. Разливающий в таких случаях по неписаным законам товарищества должен безоговорочно согласиться. Но Кашин на этот раз вдруг почему-то заупрямился, и две пары дюжих рук вцепились в края спорной миски. Подняли ее и, боясь расплескать, упрямо тянули каждый к себе. Семен Торохин, сидевший рядом с Кашиным, вдруг встал и со злой силой ударил по дну миски, она кувырком взлетела над столом, а содержимое ее выплеснулось на лица и гимнастерки Кашина и Глушкова.
— Шакалы! Из-за ложки суна глотки готовы резать друг другу.
Ни Глушков со зверовато-хшцными глазами, ни Кашин, через меру уважающий себя, даже не огрызнулись на Торохина, молча и покорно признав его справедливую силу. С этих пор даже Малков, негласно державший верх во взводе, стал с молчаливым почтением относиться к Торохину.
— Чего ты обиделся? Что я сказал тебе? Ну салага. Конечно, салага.
Торохин, вероятно, уже давно маялся своим, невысказанным, и потому уступчивость Охватова сразу вернула ему настроение.
— На смерть едем, Охватов. Единицы вернутся оттуда. Без рук да без ног которые. В нашем положении бери ориентир на вероятное. Вот и хочется иметь друга. С друзьями, говорят, и смерть красна. Понял что-нибудь?
— Что же я, по-твоему, глупый вовсе?
— Да нет, не сказал бы. С виду, Охватов, ты простачком так выглядишь, а голой рукой не бери тебя. Я хочу, чтоб ты понял, Охватов, и знал наперед: бьют нас немцы и в хвост и в гриву. А бьют почему? Как думаешь?
— Каждому ясно: внезапно же напали.
— Отговорочки: «внезапно», «перевес» и все такое.
— А почему же?
— Кто-то смотрит на немцев как на врагов, а кто-то надет их как избавителей.
— Для врагов народа да для подонков — избавители. Чего ты, слушай, мозги мне засоряешь? Я для тебя подходящий элемент, да? Вылезу вот да скажу ребятам…
— Ты лучше уж сходи в особых! отдел. Сходи скажи им, что Семен Торохин, сын раскулаченного, ведет пропаганду. Я, думаешь, чего боюсь? Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут.
— Родина, Торохин, на краю гибели, а ты какие-то обиды выволок. Время для этого, да?
— А если у меня нету ее, Родины-то? Нету, Охватов.
Торохин говорил горячо и запальчиво, и накипевшее
на сердце в молчаливой замкнутости нетерпеливо рвалось наружу. Охватов хорошо понимал, что прикоснулся к чему-то больному, выстраданному, и слушал, уже не прерывая соседа.
— До революции, Охватов, мой папаня был самым захудалым хозяином. Не везло ему все. То лошадь падет, то корова переходница, то сена у него сожгут… А самое тяжкое ярмо на шее — девки. Семья, Охватов, большая, ртов много, а землицы два надела: на отца да на меня, на бесштанного. На баб земли не полагалось. Бился папаня как — сказать невозможно: он и лапти плел, и лыко драл, и дрова рубил, а в семье пашей не было ни одной базарской пуговицы. Пуговиц не на что было купить.
На всех одежках самодельные палочки или кожаные пятачки. А революция вывела папаню в люди. Землицы нарезали по едокам; работай, сказали, не ленись и живи по-человечески. Сестры подросли — девки все спорые, работницы. Как взялись ломить — двор Торохиных подсолнухом зацвел. Пастух Кузька Недоедыш все, бывало, говаривал отцу: «Только и жду, Ефим, как дойдет очередь до твоего стола. Самые жирные блины у тебя, а от щец твоих нутро три дня теплом обносит». Кузька этот был недоумок вроде. Имел свой домишко, а слонялся по людям: летом стадо берег, зимой молотил по чужим токам или просто христа ради кормился. А потом возьми да и приживись у нас. Отъелся. Справный стал. К моей старшей сестре подкатывать начал, да папаня турнул его: себя кормить не способен, а еще семью заведешь. Слезно этот-Кузька обиделся на нас. А тут возьми да подкатись раскулачивание. Каждую ночь пошли собрания в пожар— нице. Из района приедут и кулаком по столу: давай зажиточных на выселение. Кто зажиточный? Встает Кузьма Недоедыш: сплотатор-де Ефим Торохин. Я у него был в работниках две страды. Ломил на него с пасхи до покрова. Моим, говорит, трудом расцвел его дом. Жил, спрашивают приезжие, Кузьма Лукич Недоедов, батрак и пролетарий, у Ефима Торохина в работниках? Жил. Значит, Ефим Торохин — классовый враг. На высылку!..
Вагон с четким постукиванием прокатился по стрелкам, туго заскрипели тормоза, без звона лязгнуло железо сцепления, и поезд замедлил ход.
Это был шестой день пути: везли полк Заварухина на Брянск кружным путем — через Саратов, Тамбов и Ряжск. Остановились на какой-то крупной узловой станции. За стенкой вагона сразу послышались крики, топот ног, а в открытую дверь полезли головы в пилотках и космачом, в марлевых тюрбанах.
— Братики, родненькие, нет ли на заверточку?
— Не дают, что ли, курева-то?
— Дают, да разве хватит: день и ночь смолишь.
Охватов и Торохин вылезли из-под нар. Торохин сказал, обнимая в своем кармане банку с табаком:
— Дашь им — завтра сам пойдешь попрошайкой.
— Какая станция? Станция-то как называется?
— Адуй. Вылезай да пехом дуй.
Приехавшие тоже высыпали из вагонов, немытые, всклокоченные, в мятых-перемятых шинелях, с лоснящимися от грязи руками, обросшие жидким волосом. Смешались. Началась дорожная торговлишка.
— Паровик-то у вас почему с хвоста?