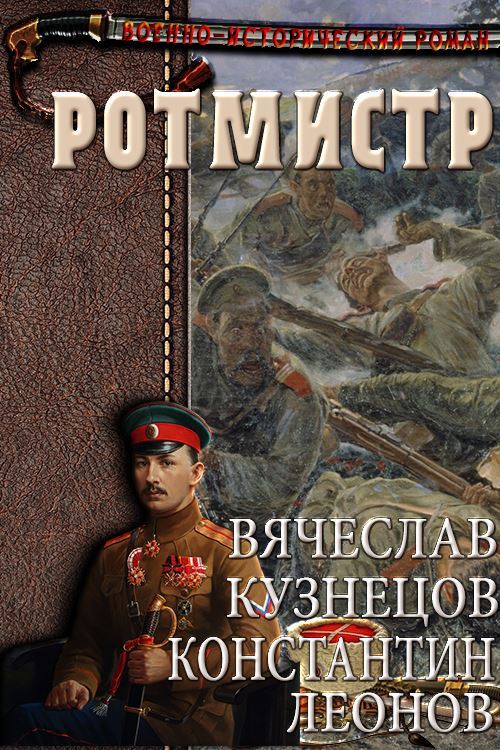нем в чисто штабном бардачном стиле, тем не менее, удивительным образом упорядоченном, навалены карты, бинокли, револьверы, тарелки с заскорузлым сыром. Рядом на топчане храпит толстый офицер без обуви, в дырявых носках, расстегнутых брюках и разошедшемся на животе кителе.
Эту идиллию прерывают звуки, похожие на то, как если бы по брустверу застучали разом десятки перезрелых арбузов — так разрываются немецкие мины из нарезного миномета калибра 75.8 мм. Растяжки, на которых держался камуфляж, посекло вмиг, и сетка падает на спящего офицера — он барахтается под ней, пытаясь встать.
— Вашу мать! Горбаткин, сигналь тревогу!
Так же неожиданно, как начался, минометный обстрел затихает. Выбравшийся из-под сетки офицер — страдающий одышкой, не обутый, в драных носках — пробирается по ходу сообщения, вытирая платком лысину и витиевато матерясь.
За крутым поворотом окопа он натыкается на Гулякова, ощипывающего гроздь винограда и рассматривающего в бинокль германские позиции.
— Александр Иванович, что стряслось? Я там… (показывает в сторону своего лежбища) схему укрепрайона чертил, а тут…
Гуляков, застегивая пуговицы на кителе тяжело дышащего офицера, успокаивает его, как ребенка, напуганного ночной грозой:
— Михаил Аркадьевич, не волнуйтесь так. Война тут у нас. Бывает, стреляют из минометов, мерзавцы…
Вдруг Гуляков, повинуясь то ли своему пятому, то ли шестому чувству, то ли звериному чутью, не поддающемуся счету, толкает собеседника вниз и быстро наклоняется сам — поверху свистят пули, и только потом доносится пулеметная очередь. Ротмистр выплевывает виноградину, накидывает каску, упруго выпрыгивает на бруствер и, взмахнув маузерами в обеих руках, хрипло кричит:
— Вперед! Царя нет, а Отечество осталось! За мной, ребята, пошли! Живее!..
Цепь легионеров бежит по простреливаемому полю. Каждый знает закон: быстрее добежишь — скорее уцелеешь.
На Гулякова скачет немец-кавалерист на кобыле с металлическими пластинами на груди. Гуляков стоит, широко расставив ноги: со стороны кажется, что ротмистр хочет принять лошадь грудью на таран. Раззявивший рот в немом крике кавалерист уже замахивается саблей, подавшись вперед, но Гуляков, словно пес в дворовой драке, неуловимым движением откатывается в сторону и лежа стреляет с двух рук вслед пронесшемуся коннику. Тот повисает на стременах, каска сваливается, обнажая угловатый белобрысый череп. Кобыла фырчит, пытаясь зубами содрать с себя пластины.
Гуляков устало вдыхает знакомый запах поля боя: сладкого пороха, свежевзрытой копытами земли и смерти.
Трое солдат подходят к лежащему навзничь германскому кавалеристу с пулевыми отверстиями в шинели на спине. Он еще жив, слышно клокочущее дыхание. Тело, судорожно вытянувшись в струнку, затихает. Один из солдат лезет к покойному в часовой кармашек.
Гуляков говорит тихо, но в его голосе есть что-то, заставляющее всех троих, как по команде, сделать шаг назад от тела:
— Прекратить хамство. Похоронить…
Солдаты неприязненно смотрят ему вслед, а потом нехотя принимаются ковырять саперными лопатками сыпучую, не комкающуюся песчаную почву.
* * *
Большая палатка полевого госпиталя оборудована в овражке, со всех сторон закрытом от обстрела. Отсюда до поля боя всего верста, и в палатку свозят тех, кто еще жив, но к кому уже примеривается смерть, и она или уходит, или получает желаемое — кому как повезет.
Михаил Аркадьевич лежит на кровати с лицом белее наволочки, только черные синяки вокруг глаз. Нижняя часть туловища закрыта простыней, но видно, что ног нет выше колен — линия ампутации заметна по полосам крови на простыне. Неслышно подошедшая сестра милосердия промокает пот на его лысине бумажной салфеткой.
На табурете в изголовье сидит Гуляков.
— Михаил Аркадьевич, держись. Скоро тебя к французам в госпиталь перевезем. А там, знаешь, какие сестрички…
— Иваныч, ничего уже не будет… От меня половина осталась, а ты еще целый. Потому говорю: остерегись. Нижние чины хотят в Россию на раздачу земли. Им эта война — что мне теперь сапоги. Поперек встанешь — на штыки поднимут. Я слышал разговоры в батальоне. Спасайся…
Из-за ширмы к кровати подходит сестра, берет руку раненого и отработанным движением вводит в вену несколько кубиков морфина. Михаил Аркадьевич устало закрывает глаза.
Сестричка — молодая лицом, но не по годам старая его выражением — обреченно машет рукой:
— Идите, ротмистр, пусть поспит…
На выходе из лазарета на Гулякова налетает вестовой Горбаткин:
— Вашбродие, вас велено в батальон! Там… Такое там!
— Не бормочи, что ты как дьяк на пожаре!
— Бунт, вашбродие! Солдатский совет требует на Россию иттить, домой!
— А этот совет на разминирование в ночь не желал бы, а? Сейчас буду…
* * *
Ряды палаток выстроились на поляне, возле костров греются солдаты, стоит неясный гул: это не обычный солдатский треп про баб, жратву и тайники в стенах соседнего замка, а обсуждение чего-то важного. Уставного уважения к офицеру, который спешился с лошади — ни на грош. Ну, подъехал конник, и пусть его…
В штабной палатке в воздухе висит напряжение, хотя на первый взгляд кажется, что присутствующие уверены: все утрясется, встанет на свои рельсы и покатится по ним в правильном, единственно возможном направлении.
Два поручика за столом пьют чай из металлических кружек, макая в него сухари. Штабс-капитан расставляет рюмки. Старый подполковник храпит на деревянных нарах. Еще два офицера стоят под свисающей сверху лампой — один перебинтовывает голову другого. Перевязываемый подпоручик Курилло морщится, затягиваясь папиросой.
Гуляков сбрасывает шинель на кровать, достает из кармана кителя портсигар, закуривает.
— Господа, кто за мной посылал? Что за пожар?
— Ротмистр, пожара не случилось по чистой случайности, — говорит Курилло, низко склонивший голову для удобства перевязывания. — У войска не нашлось предводителя. А любое сборище без командира, что монашки без игуменьи. Нижние чины словесно испражняться научились, а вот скомандовать нас перевешать было некому…
Вдруг проснувшийся подполковник громко сморкается в платок размером с портянку и сообщает Гулякову:
— Александр Иванович, надо спасибо подпоручику сказать, поставил их на место (кивает на Курилло). Солдаты заблажили: «Даешь Россию!» Стали прокламации какие-то идиотские зачитывать об отправке на родину для помощи братьям-рабочим. А Курилло их построил, вынул наган, взял его за ствол и пошел вдоль строя, рукояткой в морды тыча: «Кто готов стать убийцей офицера на фронте — бери, стреляй. Кто в условиях военного времени возложит на себя звание организатора беспорядков?» Шантрапа замолчала, засопела в обе дырки. Потом стали расходиться. Но гнида нашлась — подпоручика сзади чем-то успела приложить…
Курилло, ощупывая повязку на голове:
— Саперной лопаткой, вольтерьянцы хуторские…
Подполковник, приняв рюмку с водкой у поручика, хотел было встать, но вовремя осознав, что не тост произносит, продолжает:
— Эти граждане там, в России, выпустили всех насильников с грабителями. А вместо полиции теперь выборная милиция. В тылу