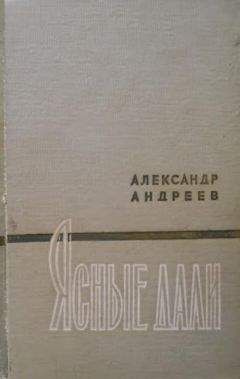Все это слилось воедино, все чувства смешались в один клубок, сдавили горло. Я только и смог добавить к сказанному:
— Даю честное комсомольское слово… — взволнованно продолжал я, — нет, я клянусь, что буду до конца преданным Родине, партии, комсомолу…
Когда Никита, облегченно вздохнув, улыбнулся и спросил: «Кто за то, чтобы принять Ракитина в члены Ленинского комсомола?», когда я увидел массу вскинутых вверх рук, все теснившие грудь чувства прорвались наружу, я до боли зажмурил глаза, чтобы не показать ребятам, как на них навернулись слезы.
Вскочив на парту, я распахнул окно.
День был солнечный, все кругом сияло. Над заводом в синем небе живописной многоярусной грядой высились белые облака. Они как будто стояли на одном месте, но если посмотреть пристальнее, то можно было заметить, что они медленно и величаво двигались за Волгу: большие, красивые, торжественные. Я глядел на облака, и в душе у меня все смеялось и пело от радости и счастья.
…Да, нам было, что рассказать Тимофею Евстигнеевичу: например, о первомайском концерте.
На этом концерте во Дворце культуры впервые выступал Санька Кочевой. Он с нетерпением ждал этого дня, но когда, наконец, день пришел и он узнал о том, что в концерте примет участие прибывшая на завод Серафима Казанцева, наша пароходная знакомая, вдруг струсил и хотел совсем отказаться от выступления. Мы настояли, и он согласился при условии, что кто-нибудь из нас будет находиться рядом с ним. Мы решили, что сопровождать его будет Никита.
Сначала мы слушали доклад Сергея Петровича, посвященный международному дню трудящихся — Первому мая.
На сцене за длинным столом сидели члены президиума. На стене висел огромный портрет Сталина: лицо его было внимательно, как будто он прислушивался и присматривался к сидящим в президиуме людям.
Сергей Петрович стоял на трибуне, прямой, подтянутый, сосредоточенный. Седина висков придавала строгим чертам лица его теплоту и обаяние. Орден Красного Знамени красиво поблескивал на груди. Сергей Петрович положил перед собой листочки бумаги и поглядел в зал. Медленно обвел он присутствующих пристальным взглядом, и его голос в тишине показался каким-то задушевно-мягким, домашним, не митинговым:
— Наша радость омрачилась вчерашними событиями: дым пожара несколько затуманил ясность нашего торжества. Враги еще раз напомнили нам, что они существуют, они живут среди нас и сдаваться не хотят. Наоборот, они переходят к действиям. Они стараются задержать наше продвижение вперед, замедлить, затормозить, оборвать… Но кто, скажите, сможет остановить теперь нашу поступь, прервать наш разбег?
Сергей Петрович говорил о победах первой пятилетки, о задачах второй, объяснял международную обстановку.
В этот вечер я впервые глубоко услышал сверлящее, похожее на зловещий клекот старого ворона слово «Гитлер» и другое, по-змеиному шипящее — «Черчилль». Они звучали непривычно и резко, как удар хлыста. Из слов Сергея Петровича я заключил, что нам, советскому народу, рано или поздно придется воевать с фашистской Германией.
— Сегодня Гитлер поджег рейхстаг, а завтра он попытается поджечь Западную Европу. Потом пойдет войной на нас, — предупредил Сергей Петрович. — За спиной Гитлера стоит империализм Англии и Америки. Империалисты ненавидят нашу страну так же, как ненавидит ее фашизм. И они помогут Гитлеру развязать войну. Войны мы не хотим! Мы сильны. И наша задача сейчас заключается в том, чтобы не покладая рук трудиться во имя могущества нашей Родины, быть бдительными и готовыми ко всяким случайностям и неожиданностям!
Слова Сергея Петровича возбуждали беспокойные мысли, непривычно роившиеся в голове. Все более отчетливо понимал я, что мир расколот на два лагеря, что между ними происходит непримиримая, ожесточенная борьба. Мне стало ясно, что мой долг — не сторониться борьбы, а быть в центре ее, плечом к плечу с Никитой, с его отцом, плечом к плечу с Сергеем Петровичем. Через полчаса начался концерт.
Когда в зале потух свет и сизо-синий бархатный занавес, как бы расколовшись на середине, тяжелыми колыхающимися складками разошелся по сторонам, на освещенную сцену стремительной походкой выбежал конферансье, тот самый толстяк Эрнест Иванович, с которым мы встречались на пароходе. Он был торжественно одет: черный костюм отутюжен; четко выделялся на нем ослепительный треугольник манишки с бойкими крылышками бантика, которые, думалось, сейчас затрепещут, и все вдруг увидят, как из-под рыжей бородки выпорхнет птичка. Эрнест Иванович мягко, точно шар, катался по сцене на своих коротких ножках. В паузах между номерами, потирая руки, он рассказывал анекдоты на тему дня, пуская меткие словечки, острил, пробовал петь и танцевать, подражая певицам и танцорам, а подвижное лицо его изображало целый каскад мимолетных чувств и переживаний. Он полностью расположил к себе зрителей. Смех и аплодисменты почти не затихали.
В середине программы Эрнест Иванович, приняв важную, даже величественную осанку, громко и торжественно оповестил:
— Сейчас выступит самый молодой исполнитель сегодняшней обширной программы — ученик школы ФЗУ скрипач Саша Кочевой! — И добавил: — Ваш товарищ и мой старый знакомый.
В зале захлопали. Гуще и дольше всех аплодисменты гремели в нашем углу.
После ухода конферансье сцена долго оставалась пустой. Никто не выходил. Мы поняли, что Санька заупрямился. Наконец, он выскочил на сцену так, словно его кто-то вытолкнул из-за кулис. Споткнувшись о складку ковра, он невольно пробежал через всю сцену к рампе, увидел в зале множество лиц, попятился назад, прижимая к груди скрипку и озираясь. Я был уверен, что Никита стоял за занавесом и грозил ему. Санька нерешительно остановился посреди сцены, вскинул скрипку к подбородку, закрыл глаза и заиграл. Играл он неплохо, ровно. Мастер Павел Степанович поощрительно протянул:
— Гляди, как… это самое… выводит, шельмец! — И похвастался соседу: — Мой ученик. Смышленый парень!.. Столяр.
А Санька уже освоился, осмелел, слушал аплодисменты, улыбался широко и простодушно, даже почесал затылок, чем вызвал смех в зале.
После Саньки на сцене появилась Серафима Казанцева в матово-белом, длинном до полу платье и серебряных концертных туфлях. Остановившись возле рояля и положив руку на крышку его, она улыбнулась в зал просто, чуть смущенно и радостно. Вслед за ней как бы прокрался аккомпаниатор, молодой человек с длинным, узким лицом и гладко зачесанными на пробор блестящими волосами, сел на стул, осторожно положил пальцы на клавиши инструмента и застыл в позе внимательного ожидания и готовности. Артистка кивнула ему. Ее длинные и крупные локоны волос пышно шевельнулись, губы разомкнулись, и полился негромкий, но необычайно звучный, бархатный голос. Все в ней было красиво: и лицо, и голос, и движения, и одежда, и сама она, строгая, красивая и недосягаемая.
Казанцева пела популярные песни, шуточные и лирические. Несколько раз она раскланивалась и уходила, но аплодисменты гремели, и она возвращалась. Наконец, когда все песни, предусмотренные программой, иссякли, она, придерживая складки платья, подступила к рампе и неожиданно спросила:
— Что вам еще спеть?
Ее наперебой просили исполнить песни из кинофильмов, в которых она играла. Она пела. Неизвестно, сколько бы держали ее зрители, если бы Эрнест Иванович не пришел к ней на помощь: выйдя на сцену, он выразительно развел руками: «Дескать, отпустите душу на покаяние» — и увел ее.
В антракте Санька прибежал в зал, отыскал нас и торопливо, несколько панически сообщил, что нас немедленно вызывает Сергей Петрович.
В небольшой, заставленной зеркалами комнате Сергей Петрович беседовал с Казанцевой. Она сидела в мягком кресле, рука устало свисала с подлокотника. Когда мы вошли, она приподнялась нам навстречу.
— Здравствуйте, ребята! — сказала она весело и дружелюбно. — Проходите. — Увидев меня, спросила: — Старый знакомый?.. Как доехали тогда? Учишься? На кого?
— На столяра, — ответил я.
— А вы? — спросила она Никиту.
— А я на кузнеца.
Вбежала опоздавшая Лена и с любопытством уставилась на Казанцеву.
— Ух ты, красавица какая! — тихо воскликнула та и взяла Лену за руку, притянула к себе: — А ты на кого учишься?
— На электромонтера.
— Ну, а мечтаешь о чем?
Лена зарделась, смущенно попятилась. За нее ответил Иван:
— Спит и видит белую фуражку на голове — капитаном волжского парохода задумала сделаться.
— Как интересно! — проговорила Казанцева, оглядев всех нас. — Товарищ Дубровин попросил меня рассказать вам о себе… А я не знаю, что и говорить. — И она в затруднении пожала плечами.
— Они ведь вас считают, Серафима Владимировна, недосягаемой, — усмехнулся Сергей Петрович.