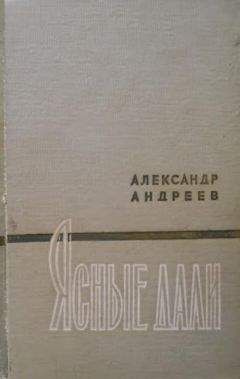— А за что же не любить меня? Я не злой, не скучный. Скучные люди вроде угара: от них голова болит… Вот учу вас разным премудростям, хорошие слова говорю, знаю, что плохие вы сами без меня услышите… — Остановив на мне просветлевший взгляд, спросил с оттенком удивления: — Дима, ты причесан? Видишь, причесался — и сразу стал красивым и даже тихим.
— Он на ночь голову сахарной водой смачивает. Над ним всегда рой мух вьется, — засмеялся Болотин, стараясь опять вызвать общий смех.
Никита одернул его:
— Замолчи! — И сказал учителю: — Диму в комсомол приняли, Тимофей Евстигнеевич.
— Поздравляю, Дима, очень рад за тебя. Это хорошо… Юность с комсомолом связана, а подрастете — в партию. Обязательно в партию вступайте… — Он чуть повернулся на бок, взглянул на Саньку: — А ты, Саня, скрипку свою не бросаешь? Лена учит тебя играть на пианино?
— Опоздали! — наклоняясь к учителю, поспешил известить Болотин. — Обставил он ее. Он уже во Дворце культуры выступал.
— В ладоши хлопали, как народному артисту, — добавил Иван не без гордости.
Болотин выхватил из кармана блокнот. На листке был изображен Санька, непомерно вытянутый, изломанный, рука со смычком застыла в размахе, удлиненные пальцы касались струн, голова отброшена назад, глаза закрыты, и ресницы лучами падали на скрипку.
— Похоже, — похвалил Тимофей Евстигнеевич, разглядывая карикатуру.
— Не могу отвадить его от этой глупой привычки, — созналась Лена, — зажмурится и начинает. Думаешь, вот-вот упадет…
— Так я и не слышал твоей скрипки, Саня! — с сожалением вздохнул учитель.
Раиса Николаевна опять принесла лекарство. Больной со страхом глядел, как она приближалась к нему, держа в руках тарелку со стаканом воды, с пузырьками и ложкой на ней.
— Не надо, Рая, погоди немножко! — сказал он просительно. — Ты же видишь, что все это зря, не помогает мне. И вообще мне ничего не надо… Ты не тревожь меня, дай мне поговорить…
— Тима!.. — укоризненно сказала жена, остановившись в отдалении, потом повернулась и пошла к двери, седая, сухонькая, горестно прикладывая платок к глазам.
Он окликнул ее мягко и вкрадчиво:
— Рая! Ну давай, давай, приму. Может быть, полегчает, а? Ты не сердись!
И вдруг он закашлялся. Кашель рвал у него все внутри, душил: тело его, странно сжавшись в комок, судорожно билось на подушках; лицо, шея и грудь побагровели; изо рта вырывался непрерывный, захлебывающийся хрип; голова болталась; очки, скользнув по простыне, упали на пол. Учитель глотал воздух, тер грудь, и мне казалось, что она сейчас разорвется.
Мы встали и отошли от кровати. Один Никита помогал Раисе Николаевне. Уложив больного, она торопливо вышла в другую комнату и стала звонить по телефону.
Кашель прекратился, но при дыхании в груди учителя еще что-то хрипело и клокотало. Тимофей Евстигнеевич лежал бледный, по-детски беспомощный, крошечный. У меня сжалось сердце от жалости к нему. Я взял безжизненно свесившуюся руку его и бережно положил на кровать.
В это время вошел Сергей Петрович. Он пропустил впереди себя врача с маленьким чемоданчиком в руках. Врач пошел на кухню мыть руки, а Сергей Петрович, остановившись позади нас, не спускал с учителя черных, пристальных, обеспокоенных глаз.
Тимофей Евстигнеевич, не пошевельнувшись, не открывая глаз, тихо проронил:
— Многое с вас спросится, когда подрастете, большую ношу взвалят на плечи — не согнитесь. Где мои очки? — Рука учителя пошарила вокруг себя, не найдя очков, она опять повисла, касаясь пальцами пола. Больной забормотал что-то бессвязное, невнятное…
Врач подошел к постели и, не приступая еще к осмотру, сказал Сергею Петровичу:
— Его надо отправить в больницу.
Сергей Петрович сделал нам знак, и мы бесшумно вышли из комнаты.
На улице ярко светило солнце. Ветер чуть колыхал ветви старой липы, и листья ее шелестели.
…Тимофей Евстигнеевич умер через два дня в больнице. После смерти отца и убийства двадцатипятитысячника Горова это была третья смерть… Отца моего нет в живых, а вещи, сделанные его руками, живут и украшают жизнь людей. После Горова остался колхоз, который он помогал крестьянам создавать.
А что оставил учитель? По каплям роздал он себя нам, своим ученикам, — их у него были сотни. В душу каждого из нас он заронил зерно хорошего, которое, быть может, даст росток; росток поднимется и расцветет пышно и красиво, и мы будем благодарны ему за эти ростки и цветы.
1Приближались экзамены. Они представлялись нам в виде высокого каменистого перевала на нашем пути, который мы обязательно должны были взять, чтобы идти дальше. Там — каникулы на два месяца, там — Москва.
О Москве мы говорили много и горячо. Она входила в программу нашей жизни так же верно, как экзамены, каникулы, новый учебный год. Нас беспокоил, а иногда просто повергал в панику только один вопрос: а что, если путешествие наше почему-либо не состоится?..
Как-то раз, встретив меня возле железнодорожной платформы, Сергей Петрович пристально посмотрел мне в глаза и сказал:
— Как ты изменился, Дима, вырос!.. Как вы там?
Он и сам заметно изменился за каких-нибудь два месяца: стал будто моложе, стройнее, негустые русые усы, выгорев на солнце, еще более посветлели, голос сделался мягче, задушевнее.
Через левую руку его был перекинут плащ, а правою он взял меня за плечи. Так мы и двинулись к общежитию. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь из ребят увидел нас вдвоем. Но в лесу было пусто и тихо. Только дятел неутомимо долбил в верхушке сосны, и гул катился по стволу до самого низа.
Сергей Петрович, помня мои порывы все бросить и убежать с завода, не забыл спросить меня, не собираюсь ли я назад в деревню (он всегда донимал меня этим вопросом).
А в деревню мне действительно хотелось: я сильно соскучился по матери и Тоньке. Несколько дней назад я получил от них письмо:
«А от тебя писем все нет и нет, и я все думаю: не случилось ли чего с тобой? А летом дожидаемся тебя домой, непременно приезжай на побывку с товарищами, если они согласятся приехать…»
Я представил, как мать, присев к уголку стола, с грустным лицом неторопливо диктует Тоньке, как та, положив на стол локотки и уткнувшись носом в самую бумагу, старательно излагает сетования матери, не переставая пререкаться с нею. В конце письма Тонька приписала от себя:
«Смотри, приезжай, Митя. А то, как ты уехал, мамка как замерла, так и живет, словно сонная или замороженная, даже во сне все о тебе шепчет. Приезжай. Скоро у нас на площади перед школой будем памятник ставить Горову — помнишь, у нас на квартире стоял зимой, бритый весь, из Москвы? А Фильку Разина выбрали секретарем комсомола — начальника из себя изображает. Евленья Юдычева вышла замуж за Микешку Растяпина. Она теперь ходит и не нарадуется: ведь он курсы кончил и теперь агрономом у нас. А я бы не пошла за такого: не нравится он мне — с портфелем своим не расстается…»
Но об этом письме я ничего не сказал.
— Мы в Москву собираемся, Сергей Петрович, — признался я откровенно.
— Ах, в Москву! — удивился он и тут же сказал с раскаянием: — Поспешил я тогда с обещанием-то. Теперь деваться некуда: дал слово — выполняй. — И, пройдя несколько шагов, заверил: — За мной дело не станет. Посмотрим, как вы испытания выдержите. Мне сказали, что Санька стал учиться хуже… А по договору как? Если один из «высокой договаривающейся стороны» не сдаст какой-нибудь предмет, то не едет никто. Значит, вы не сильно хотите попасть в Москву, если не можете заставить Саньку заниматься.
— Заставишь его!.. Станешь говорить — ощетинится, фыркнет и убежит.
— Этого не может быть, — строго сказал Сергей Петрович, отстраняя меня. — Вас много, а он один. Ваше решение для него должно быть законом, так же как и для тебя и для Никиты. Запомни это, пожалуйста.
Мы и сами видели, что дела у Саньки плохи. Что-то случилось с нашим другом, какая-то борьба происходила в нем, поглощая его всего. Он глядел на нас изумленно и выжидающе и все время к чему-то прислушивался, чего-то ждал. Сначала мы думали, что на него сильно повлияла смерть Тимофея Евстигнеевича. Но тягостное впечатление смерти, отодвигаясь все дальше, стиралось временем, а Санька становился все нетерпеливее и отчужденнее.
Вечерами он пропадал во Дворце культуры. Возвращался оттуда поздно, торопливо и как-то виновато прятал скрипку под стол и, лежа на койке с открытыми глазами, что-то шептал, должно быть, сочинял стихи. Мы неосторожно стали подтрунивать над ним, и тогда он перекинулся в компанию Фургонова и Болотина, подолгу засиживался в их комнате. Что влекло его к ним, пока трудно было понять.
Санька считался лучшим игроком в волейбол. Быстрый, напористый, пружинисто подскакивая, он красиво принимал мячи, точно пасовал, негромко предупреждая: