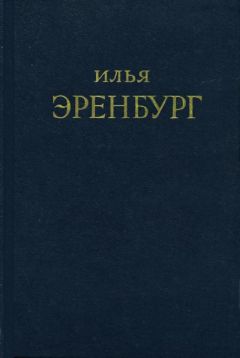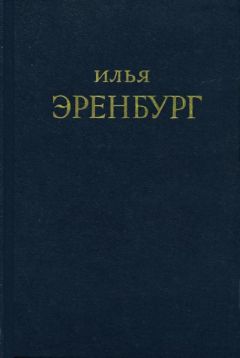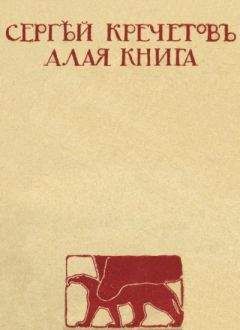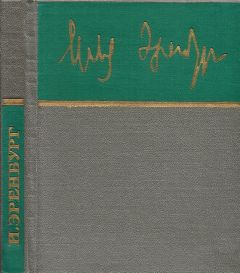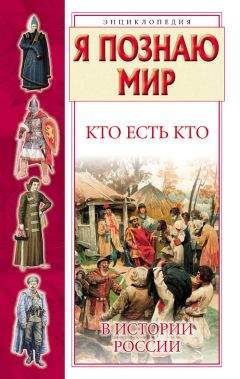Как просто было в августе: стреляй! Но есть обет, от которого нельзя отказаться. Думают, что искусство — это самое легкое: научился писать и пиши. А здесь мало и умных мыслей, и доброй воли, и мастерства. Здесь мало видеть и понимать. На этом нужно сгореть. Искусство не только смотрит назад, у него не только хорошая память, у него и предвидение…
Он стоял у окна. Ему казалось, что его обступают тени; зовут, требуют, обличают. А внизу люди все еще шли, кричали, пели. И вдруг донеслась до мастерской песенка, которую любили партизаны Лимузэна:
Другие встретят солнце
И будут петь и пить
И, может быть, не вспомнят,
Как нам хотелось жить…
Так вот чего они требуют — сказать, как хотелось жить людям, которые отдали свою жизнь, — Полю, Марго, сталинградцам, летчикам, партизанам… Но как это выразить? Самба жадно вглядывался в ночь, как будто хотел разглядеть то, чего не видно. Он долго простоял у окна. Давно замолк город. Наконец ночь дрогнула; все стало неточным, смутным, томило глаза и сердце. А потом на очень бледном небе обозначились черты Парижа: далекие башни, деревья, крыши, трубы. На черепицах лежал человек с ружьем. Он глядел мертвыми стеклянными глазами, а кровь казалась давно нарисованной — пожухла. Тогда Самба, не раздеваясь, лег и тотчас уснул в мастерской, полной яркого дневного света.
На одной из братских могил поставили памятник; сегодня, в день победы, его откроют. Мадо и Лежан идут по длинной улице. Старые каштаны. Тюрьма, здесь сидел в сороковом Лежан. А наискосок маленькое кафе; как-то шел сильный дождь, сюда забежали Сергей и Мадо; Сергей рассказывал, как ехал на телеге по степи; и Мадо, закрыв глаза, старалась себе представить, что такое степь. В тюрьму приходила Жозет, на ней был темно-синий костюм… Мадо и Лежан молчат; каждый вспоминает свое.
Потом Лежан говорит:
— Какой Париж теперь бедный!
— И грустный, — отвечает Мадо, — и милый…
Листья деревьев еще нежнозеленые — ведь только начало мая; в этом тоне есть нечто трогательное, доверчивое. А у встречных глаза темные, жесткие: люди все знают, ведь после августа была зима… Кругом Париж; его дома поседели, покрылись морщинами. Многие из этих домов помнят, как санкюлоты клялись отстоять братство; а потом пришли щеголи и франтихи Директории, «божественные» и «несравненные», стали сюсюкать, картавить; конюх превратился в маркиза с лорнеткой, торговец свиной щетиной оброс дворянскими гербами. Старые пепельные дома видели сорок восьмой, деревья свободы и генерала Кавеньяка, который залил кровью блузников узкие улицы предместий. Мартовский вечер Коммуны прошел по чердакам, по винтовым лестницам, залез в подвалы, разворотил мостовые; и среди нежной зелени мая, на валах фортификаций подростки пытались камнями отбить версальцев. Можно ли столько знать, столько помнить? И как дома не выболтали всего прошлым летом, когда снова вскипела душа Парижа и баррикады перерезали улицы? Сколько прошло с августа? Да всего восемь месяцев. А уже (без шума, без пушек) наследники Тьера прибрали Париж к рукам. Вчера Лежан слышал, как один добродетельный негоциант, с розеткой Почетного легиона, рассуждал: «Боши причинили нам много убытков. Одно полезное дело они сделали… Да и то не доделали — еще много осталось этих коммунистов…»
Лежан очень изменился за эти годы; пожалуй, его не узнал бы и тот памятливый официант, который чуть было не погубил Люка. Смерть Жозет Лежан пережил мучительно: конец его личной жизни совпал с концом подполья. Когда все ликовали, когда люди вспомнили о доме, о своих близких, о прогулке, детских игрушках, ласковых словах, Лежан оказался одиноким. Порой он шел, задумавшись, по улице; из окон вырывались звуки рояля, и тогда ему казалось, что он идет домой, Жозет его ждет, он, кажется, опоздал… Он зашел недавно в мастерскую Самба, хотел взглянуть на портрет сына: Самба написал Поля давно, когда тот еще был мальчиком. «Возьми портрет», — сказал Самба. Лежан покачал головой: «Мне его некуда повесить. Дома нет, наверно и не будет, приходится много ездить, живу как на станции…» Встречаясь с Мадо, Лежан чувствовал облегчение; перед нею он не скрывал своей боли: Мадо бывала у них, знала Жозет, играла с Мими…
Сейчас он искоса поглядел на нее. Она очень осунулась. Не хочет отдохнуть… На исхудавшем лице большие глаза казались еще больше, они отделялись от лица, светились, летели, жгли.
Телеграмму от Воронова Мадо получила в феврале. Она никому не рассказала о смерти Сергея, даже Лежану — несколько раз порывалась сказать и не могла. Много ночей она проплакала в своей комнатушке, плакала, не думая, горячими простыми слезами, плакала не потому, что потеряла Сергея — потеряла она его давно, а потому, что он умер, — не могла себе этого представить. Все эти годы она держала сердце на замке, порой сердилась на себя: любовь казалась ей посягательством — у него своя жизнь, я не имею права вторгаться даже мыслями… А теперь она говорила себе: люблю и не разлюблю никогда, ведь этого больше не будет, все ему отдала. Видела его всегда живым. Почему-то ей казалось, что горы Югославии похожи на Лимузэн, так же поросли буком, ольхой. А по склону горы идет Сергей с ружьем. И Мики поет: «Мы жить с тобой бы рады, но наш удел таков…» И она говорит Сергею: «Это правда. Мы жить с тобой бы рады, но ты понимаешь — таков удел… Все, что я тебе написала, неправда. Нет у меня никакой семьи, я твоя, как раньше. Хорошо, что ты не получил того письма, я ведь прежде никогда тебе не лгала, и не буду лгать. Ты — моя любовь. Помнишь, как кружилась карусель на площади Итали, было много, много огней? А теперь Париж очень темный. Я ничего не вижу…» Мадо казалось, что Сергей идет с ней рядом по горам Лимузэна — Медведь, Деде, Мики. Большой мост… Засыпая, она вдруг вскрикивала. Она в тюрьме. «Сергей!..» И Сергей отвечает: «Не верь, что меня убили, я иду, сейчас приду…» Он ее выводит из тюрьмы, стоит перед ней, откинул голову назад и чуть прищурился. Милый!..
Она сейчас проверила — в сумке ли голубой листок (телеграмма от Воронова), она с ним не расставалась.
Лежан говорит:
— Я думаю, будет много народа. Хорошо, что совпало с днем Победы… Нужно показать, что они нас не запугают. Мадо, помнишь, в сорок втором мы гадали, как будет после победы. Я, кажется, не грешил излишним оптимизмом. И все же я не думал, что будет так… Они удивительно быстро забыли… Я не говорю про вишистов — эти ходят героями. Но и другие… Я встретил вчера Гарей, я его видел в сорок третьем, он был связан с AS. Он мне сказал: «Коммунисты хотят вызвать раскол, я надеюсь, что нация поддержит де Голля…» Я даже не думал, что он способен на такие сильные чувства — к немцам он относился куда спокойней. Они нас ненавидят. Понятно — мы вышли из войны победителями, если кто-нибудь спас честь Франции, то FTP… Народ это знает. Я был недавно в Орадуре, там мало осталось живых, а все, кто остался, — стали коммунистами, иначе и не может быть — у крови свои права…
Могильная плита; простая надпись: «Герои FTP». Много цветов — ландыши, фиалки, пестрые анемоны, белые и золотые звезды нарциссов, сирень, тюльпаны, первые левкои. Кругом тысячи и тысячи людей: седые рабочие в помятых кепках, солдаты, вернувшиеся из немецкого плена, партизаны, раненые, сражавшиеся на Рейне, узники немецких лагерей, сморщенные старухи, подростки, рыболовы и любители велосипедных гонок, мечтатели и забияки, литейщики, каменщики, токаря, грузчики, механики, кожевники, печатники, шоферы, плотники, повара, пекари, землекопы, девушки, школьники, ветераны, люди с мозолями на руках и с цветами, старый, вечно юный Париж.
Говорит Мадо:
— Я хочу сказать о тех, кого я знала. У товарища Лежана был сын. Я знала Поля мальчиком. Он только входил в жизнь, он был как этот весенний день. Свою группу он назвал «Сталинград». Это было в темное время, Франция еще молчала… Они напали на немцев. Поля ранили, пытали, он никого не назвал. Коммунисты никого не называли. Я видела гестапо, немцы там пытали Мориса. Он никого не назвал… Палачи говорили друг другу: «Мы напрасно ждем, он ничего не скажет — он коммунист…» Я хочу сказать о Миле, его звали в сопротивлении Пепе. Он застрелил в сорок первом гестаповца. Перед казнью он написал письмо — не жене, не другу — партии. Партия — его любовь, наша любовь, наша партия!.. На нас клевещут, могильщики Франции кричат: «Коммунисты плохие французы…» Кто может больше любить эту землю, чем любил ее Жано Миле? Он вырос в Сюренн, он полюбил в Сюренн, там его расстреляли… Франция, милая Франция — не чернилами написаны эти слова — кровью партизан, кровью коммунистов! Пусть скажут мертвые, за что они умерли. Не за то, чтобы Францией снова правили предатели, поставщики немцев, люди, которые вовремя обменяли немецкие марки на доллары. Я хочу сказать, что мы не одни, с нами герои Югославии, партизаны Норвегии, бельгийские партизаны — пусть их сейчас травят, они не уйдут со своей земли, горняки Боринажа, сталевары Льежа. Есть у нас великий друг, он нас выручил, он нас не предаст, это народ Сталинграда. Его имя я называю на могиле французских героев. Палачи Парижа были разбиты у Волги. В моем отряде сражался русский офицер. Его взяли немцы, когда он лежал с простреленной грудью в степи. Он пришел к партизанам, мы его прозвали: Медведь. Он одним из первых вошел в Лимож. Я хочу сказать о тех, кого я знала. Я знала русского. Он сражался в Сталинграде. Он любил Париж. Он погиб в горах Югославии: с собой он принес свободу. Он жил, как Поль Лежан, как Жозет, как Ги Моке, как Семпе, как Мики, жил одним: нашей правдой, нашей страстью, нашей верой. Можно изменить слову, другу, мужу или жене. Нельзя изменить мертвым. Вот могила, над ней мы клянемся: дальше, в гору, пусть камни, пусть зной, пусть кровь, идем и дойдем! Клянемся!