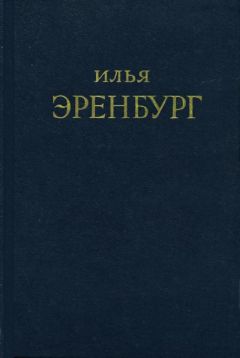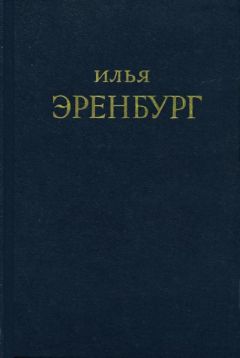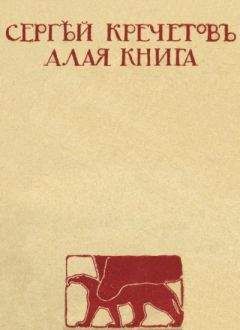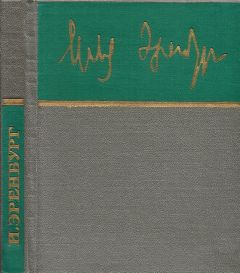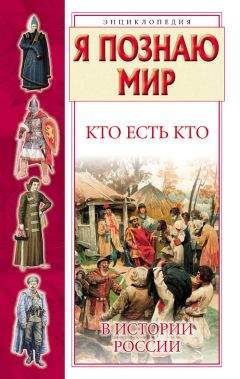И, как горное эхо, пронеслось по пустырям, по улицам пригорода, по Парижу: «Клянемся!»
Садится солнце. Еще звенят слова. Еще несут тяжелые венки, и цветы к концу дня особенно сладко пахнут. В стороне возле дерева стоит молодая женщина в сером платье. Она внимательно смотрит на длинную улицу, ее глаза широко раскрыты. Но она не видит ни людей, ни серых домов, ни большого венка — темная зелень и красные розы. Она ждет. Навстречу идет Сергей. Это не улица, это аллея; прошел дождь, и все пахнет мокрыми листьями. Мадо говорит: «Я не сказала того, что хотела…» Сергей спрашивает: «Что?..» И она отвечает: «То, что я сейчас сказала…»
Ни товарищи, ни профессора, ни соседи не догадывались о том, что переживает Валя: за годы войны эта маленькая, на вид слабая женщина научилась глубоко хоронить свои чувства. Одна из соседок сказала своему мужу: «Вот и пойми… Казалось, уж кто-кто, а она верная, волнуется, ждет писем, а убили — даже не поплакала…» Только Нина Георгиевна знала, что происходит с Валей, хотя и перед ней Валя ни разу не заплакала.
Нина Георгиевна скрыла от Васи, что была тяжело больна: вскоре после того как пришло известие о смерти Сергея, она схватила плеврит. Видимо, она ослабла в эвакуации, врач чуть ли не каждый день устанавливал новую болезнь. А она ни на что не жаловалась, только каждый раз, когда пыталась встать, покрывалась потом и, виновато улыбаясь, говорила Вале: «Придется еще полежать…» Все свободное время Валя проводила с нею; они часто говорили о Сергее, говорили внешне спокойно, как будто он уехал далеко и только. Сдержанность Вали передавалась Нине Георгиевне. Она много рассказывала Вале о детстве, о ранней молодости Сергея; Валя жадно слушала — ей казалось, что она заново находит Сережу. Она редко что-либо говорила: ей нечего было рассказать о Сергее. Минутами ей казалось, что он ей не открылся; смутные разрозненные образы скользят, как песок, между пальцами. Но потом, собравшись с мыслями, она говорила себе: неправда, Сережа во мне — не даты его жизни, не поступки (я мало знаю, как он жил до нашей встречи, как воевал), он мне дал самое важное — свою страсть, тревогу, сердце. Вот почему мне все понятно в его жизни — до мелочей, ошибки, увлечения, тот порыв, который привел его в горы Сербии, все, все.
По ночам она лежала неподвижно на спине с раскрытыми глазами. Нужна была огромная сила характера, чтобы после таких ночей итти в студию, разговаривать с людьми, улыбаться, играть веселых колхозниц или коварных герцогинь, ухаживать за Ниной Георгиевной, внося в ее мир тихую спокойную печаль. Лежа ночью, Валя ни о чем не думала: ощущение потери было острым, как физическая боль. Слишком живой была память о Сергее, об его руках, губах, о том, как накануне отъезда, усталый, он уснул, положив свою тяжелую теплую голову на ее грудь.
Эта, казалось, безысходная боль помогла ей удержаться в жизни: чувство было таким сильным и вязким, так захватывало ее всю, что невольно (никогда Валя об этом не думала) оно находило выход в искусстве. Про нее теперь говорили: «чувствуется недюжинный талант»; и чем ей было тяжелее, тем чаще раздавались такие похвалы. Никто из восторгавшихся ее одаренностью не подозревал, какой ценой оплачены этот вибрирующий голос, сосредоточенные и вместе с тем далекие глаза, повелительный и беспомощный жест, как бы говоривший: не спрашивай, я все вижу…
С апреля Нина Георгиевна начала выходить; и сразу, несмотря на запреты врача, на уговоры Вали, она вернулась к своей работе, говорила: «Запустила детишек, нельзя мне больше болеть». Она возвращалась вечером усталая, плохо спала. Врач прописал снотворное. Она говорила: «С ним засыпать страшно — как будто проваливаюсь, зато крепко сплю…»
Восьмого мая вечером вся Москва ждала развязки; люди звонили друг другу: «Слушаете?»… Ждала у приемника и Нина Георгиевна, но не дождалась — чувствовала себя разбитой; приняла люминал, легла и быстро уснула.
Легла и Валя; но она не спала — лежала с раскрытыми глазами. Она сразу услышала, когда «тарелка», висевшая в передней, заговорила.
Конечно, Валя, как все, ждала этого сообщения, и все же она взволновалась, тихо оделась, чтобы не разбудить Нину Георгиевну, вышла на улицу. Светало. Из других домов выглядывали люди. Какая-то старушка кинулась к Вале, стала ее целовать. Валя, не думая о том, куда идет, пошла к Красной площади. Там уже были люди. Они шли, растерянные от радости. Не слышно было ни песен, ни криков, стояла большая торжественная тишина.
Валя последние минуты не шла, а бежала, как четыре года назад бежала, подходя к дому, где жил Сергей. Все смутное и тяжелое, накопившееся за последние месяцы, вдруг разрешилось в глубокой радости этого раннего часа. Валя вдруг поняла: победил Сережа, довоевал, дожил, дошел, он жив, радуется, смотрит на свой родной город… И в этом была связь Вали с другими: с офицером без руки, с пожилой женщиной, закусившей губу, с двумя солдатами, еще не успевшими помыться и побриться, с молоденькой девушкой в берете, которая заглядывала всем в лицо, как будто кого-то искала. Поздравляли Валю, и она поздравляла, расцеловала военного без руки. Все больше было народу. Валя глядела на Кремль, горящий в свете встающего солнца, древний и беспокойно молодой. На ее лице появилась та улыбка, которая всегда ее меняла, улыбка, которую столько раз вспоминал Сергей. Валя стояла лицом к кремлевской стене и улыбалась. Какой-то фоторепортер снял ее; она растерянно спросила: «Меня почему?..» Фотограф не ответил. А заплаканная женщина сказала Вале: «Дайте я вас поцелую…»
Нина Георгиевна еще спала. Валя сказала ей: «Победили…» Они обнялись, и обе, впервые за все это время, уж не стыдясь ничего, расплакались. Потом Нина Георгиевна упрекала: «Почему не разбудила?..» Валя не знала, что ответить: ей казалось, что она бегала украдкой на свидание с Сережей, но рассказать об этом она не могла.
Нина Георгиевна пошла на Красную площадь. Не было ни демонстрации, ни колонн — но люди шли именно туда. Здесь были товарищи Сергея, саперы, помнившие Волгу, партизаны из брянских лесов, из Налибокской пущи. Прошла девушка с медалью — это была та самая Таня, которая прошлым летом в избе возле Минска любовалась майором инженерных войск. Прошел лейтенант Сазонов из партизанского отряда «Мстители». У него была рука на перевязи. Когда его начали качать, он говорил: «Меня за что? Ничего я этого не сделал…» Мария Михайловна Минаева строго его допрашивала: «Гитлера поймали?..» Она приоделась ради праздника, рассказывала чужим: «Митенька мой в Берлине» (с ударением на первом слоге). Прошел слепой солдат, его вела за руку девушка; он глядел невидящими глазами и улыбался: видел победу. Прошла старая женщина, она держала в руке большую фотографию, говорила: «Пусть и Ваня увидит», — ее сын погиб у Будапешта. И было столько глубокого целомудренного веселья, столько тихих слез, столько молчаливого торжества, что исчезали лица, слова, судьбы. Нина Георгиевна подумала: Сталин хорошо сказал про народ — ведь, правда, бессмертен…
Как это порой бывает у немолодых людей, перед нею прошла вся ее жизнь в образах несвязных, но связанных между собой непостижимой уму нитью: студенческие годы, «Что делать?», явки, тюрьма, разговор с молодым французом о счастье, муж и скамейка в парке Монсури, выстрелы, флаги Октября, школа, стихи Гюго, темная осенняя ночь сорок первого, поезд, спящие дети и Сережа — где-то очень далеко на высокой горе со своей рассеянной ласковой улыбкой. Нина Георгиевна поняла, что сегодняшний день связан со всей ее жизнью, с любовью, с борьбой, с работой. Завтра она снова пойдет в школу, увидит детишек… Наверно, скоро приедет Вася. У него жена, сын. Олечка счастлива — Синяков вчера прислал телеграмму — в июле рассчитывает вернуться. Олечка ждет ребенка… Валя справилась. Она будет большой актрисой, может быть, она выразит то, что было в Сереже… А я?.. У меня школа, память, народ… И Нина Георгиевна глядела вокруг молодыми глазами курсистки, как на фотографии, которую бережно хранил Сергей. А сердце колотилось — слишком много было в нем и горя, и счастья. Она обняла маленькую девочку, стоявшую рядом, — только ей, ничего не понимающей, могла она рассказать и про свою молодость, и про Сережу, и про народ; она выразила все в одном слове, которое, как ветер, облетало большую площадь: «Победили»…
Наташа тоже ходила с Васькой на Красную площадь; потом они были у Нины Георгиевны. Все было таким необычайным, что Наташа думала: будто во сне… А когда она вернулась домой, ее ожидало письмо от отца. Соседка сказала: «Летчик принес».
Дмитрий Алексеевич писал:
«Дорогая моя Наташа!
Только что мне сказали, что в Реймсе немцы подмахнули черновик, завтра прилетят сюда. Значит, все кончено, и первое, что я делаю, пишу тебе. Милая ты моя, любимая дочка, поздравляю тебя, знаю, что ты пережила за эти годы, была храброй, работала, как же не сказать, что это наша общая победа! Вспоминаю сейчас, как приехала ты из Минска и сразу сказала, что хочешь на фронт, и это неважно, что ты была на фронте недолго, в эту войну воевали все. Больно мне, что мама не увидела, ведь можно жизнь прожить и не узнать такого счастья. Ты подумай, что случилось, — победили! Я живу в домике под Берлином, жил здесь какой-то жеребчик, у него ванна фисташкового цвета и полное собрание сочинений доктора Геббельса. Нет, не хочется о них сейчас думать, хочется думать о нашем народе, добром, смелом, верном своему сердцу, своей судьбе.