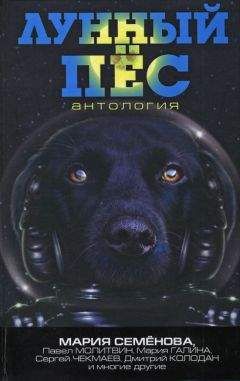Проходя в низкую дверь землянки, каждый пригибал голову, оберегая распластанные поверх шлемофонов летные очки.
— Остальным в автобус. Можно ехать в общежитие. Разойдись! — скомандовал Емельянов:
Летчики, обгоняя друг друга, побежали к стоявшему у штабной землянки автобусу. Под их унтами поскрипывал смерзшийся снег.
— Как настроение народа? — опросил командир дивизии у Емельянова, когда они остались вдвоем.
— Хорошо дерутся, товарищ полковник. Я вам еще не докладывал: сегодня звено капитана Доброхотова встретило большую группу транспортных «юнкерсов». Тех «мессершмитты» прикрывали, да наши ястребки связали «мессеров» боем. А мои ребята врезались в строй противника, и каждый сбил по два-три самолета. Старший лейтенант Ольховенко лично четыре «юнкерса» завалил. А потом, раненный в руку, в спину и в голову, привел подбитый штурмовик на свой аэродром.
— Ну и орел! — покачал головой Рубанов:
— Послушайте дальше! — продолжал майор. — Шасси у самолета были перебиты, поэтому посадку Ольховенко произвел на «живот». Вылез окровавленный из кабины да как замахнется гранатой на подбегающих людей, кричит: «Не подходи, гады!» Думал, что на территории противника сел, — пояснил Емельянов. — Если бы не потерял сознания и не упал — швырнул бы, чего доброго, гранату в своих же механиков... Сейчас в госпитале лежит. Врач говорит — будет жить.
— Да!.. А откуда у него граната взялась?
— У нас многие берут в полет гранаты. А то еще и автомат прихватят — на всякий случай.
Полковник на мгновение задумался и тихо проговорил:
— Представьте его к награде.
— Слушаюсь!
— До свидания, Емельянов, а то я засветло не успею к себе перелететь.
Они направились к машине командира дивизии.
— Обеспечьте группу Бахтина кострами во время взлета. А вылет рассчитайте так, чтобы к рассвету она уже была над аэродромом противника.
— Все будет сделано, товарищ полковник!
Емельянов проводил Рубанова до самолета.
Солнце уже наполовину скрылось за обагренным горизонтом, когда штурмовик командира дивизии, стремительно набирая скорость, оторвался от земли и плавно убрал шасси.
Емельянов вернулся на командный пункт. Летчики группы Бахтина, проложив маршрут, уже складывали карты.
— Все продумали? — обратился к ним командир полка. — Учтите, аэродром Сальск прикрывается трехслойным зенитным огнем. Думаю, что и «мессеров» там достаточно. Вам, Бахтин, как ведущему необходимо особенно тщательно обмозговать все детали предстоящего полета.
— А мы сейчас к нашим зенитчикам пойдем. Выведаем, когда им труднее вести огонь по самолетам. Тогда ясно будет, как лучше заход на цель строить, — решил капитан Бахтин.
— Ну что ж, это только на пользу. Идите, — согласился Емельянов.
После ужина капитан Бахтин, лейтенант Карлов и сержант Долаберидзе вместе вышли из столовой. Вместе направились они по темной улице станицы Барабанщиков в свои общежития. Неполный месяц тускло освещал домишки с темными, наглухо занавешенными окнами, Дым из печных труб медленно струился вверх и, растекаясь где-то на высоте, туманил звездное небо. Крепкий мороз предвещал на завтра хорошую погоду.
Летчики шли молча. Каждый думал о своем. Они уже свернули на протоптанную в глубоком снегу тропинку, которая вела к общежитию напрямик, через развалины разрушенных домов и небольшие завалы щебня, когда Карлов неожиданно спросил у Бахтина:
— Иван Павлович! Вы летали сегодня над Сталинградом?
— Летал. А что?
— Да вот идем мы сейчас по развалинам, и представился мне Сталинград. Я тоже вел сегодня эскадрилью над городом. А ведь от города одно название осталось. Здесь, в станице, хоть половина хат уцелела. А там? Горы битого кирпича да кое-где одинокие стены с такими дырами и провалами, что в них самолет пролететь может. Огромная рана на земле... — Карлов умолк и после небольшой паузы добавил: — А я бывал в Сталинграде до войны. — Глубоко вздохнув, он задумался, вспоминая что-то далекое, радостное.
— А по-моему, Георгий, — не скоро ответил Бахтин, — эти уцелевшие стены стоят на земле словно памятники. Да, да, именно памятниками величия, стойкости кажутся мне эти стены. Ведь сколько бомб и снарядов обрушил враг на город, сколько шрамов выбито на каждой из стен, а они выстояли. Кончится война. Снова отстроят город. Быть может, станет он лучше, чем был раньше. Но я бы выбрал самую крепкую, самую прочную стену и оставил бы ее стоять на берегу Волги. Пусть напоминает она нашим детям, как отстаивали мы свою землю. — Бахтин взглянул на Карлова, потом на Долаберидзе и продолжал: — Еще хочется мне, чтобы ни один фашист не удрал из Сталинграда, хочется заставить пленных гитлеровских солдат отстроить то, что они разрушили... И чем больше уничтожим мы завтра «юнкерсов», тем быстрее задохнется армия Паулюса.
— Ради этого стоит постараться, — согласился Карлов.
— Эх, и влупим завтра сальским летунам! — воскликнул Долаберидзе, подкручивая черные усики. Он поскользнулся и тяжело навалился на Бахтина.
— Ну и медведь же ты, Долаберидзе, — еле удержавшись на ногах, сказал тот.
Вместе с Карловым они рассмеялись. Дальше пошли молча.
— Ты что, кацо, замолчал? — спросил Бахтин.
— Я тебя, как отца родного, лублу, а ты меня медведем назвал, — надулся Долаберидзе.
— Да ты что! Никак обиделся? — удивился Бахтин.
— А ты думал, тебе всо можно?
— Брось, кацо, я же тебя тоже люблю. — И Бахтин, встав на цыпочки, обнял своего обидчивого друга.
Они уже подошли к общежитию, где жил лейтенант Карлов, Бахтину и Долаберидзе нужно было идти дальше.
— Пойдем к нам, — пригласил Карлов товарищей, — я вам на баяне поиграю.
— Нет, Георгий, надо отдохнуть перед вылетам, — отказался Бахтин.
— Да... жалко рана вставать нада, а то пошел бы. Харашо, Георгий, играешь, — Долаберидзе дружески хлопнул его по плечу. — Ну, пойдем, варабэй адиннадцать, — обратился он к Бахтину.
Друзья улыбнулись. «Воробей одиннадцать» — позывной капитана. Во время полета в наушниках часто можно было слышать торопливую скороговорку:
«Я — воробей одиннадцать. Я — воробей одиннадцать. Как меня слышите? Прием». — И летчики в шутку звали иногда Бахтина «Воробей одиннадцать».
Попрощавшись с друзьями, Карлов открыл дверь и сквозь клубы пара вошел в общежитие. Это была большая деревенская хата с двумя окнами и низким потолком. Ярко горели три керосиновые лампы «летучая мышь». Справа, вплотную прижатые к стене, тянулись сбитые из досок нары, на которых бугрились аккуратно заправленные одеялами матрасные тюфяки. За длинным столом, у самых окон, задернутых черным коленкором, сидели несколько человек. Двое играли в шахматы, другие забивали «козла» и при этом с такой силой стучали костяшками, что на шахматной доске подскакивали фигуры, а один, пристроив маленькое зеркальце на самом краю стола, брился.
Увидев командира эскадрильи, летчики встали. Здесь были «старые», уже воевавшие воздушные бойцы, о чем красноречиво говорили ордена, сверкавшие на их гимнастерках. Только двое шахматистов на днях прибыли в полк из летной школы и считались молодыми. Правда, всем им — и молодым, и старым — едва перевалило за двадцать. Поэтому двадцативосьмилетний Георгий Карлов и по возрасту, и по облику резко выделялся среди летчиков своей эскадрильи.
— Ну, топорики, что повскакивали? Садитесь! — разрешил Карлов. Он присел на нары и начал стягивать унты.
«Топорики» — шутливое выражение командира эскадрильи. Перенял он его еще в летной школе от своего инструктора, который называл так курсантов за их неумение держаться в воздухе.
Окончив в 1939 году летную школу, Карлов сам стал инструктором в Мелитопольском авиационном училище и тоже на чал называть некоторых курсантов «топориками». Произносил это Карлов всегда в шутку, ласковым голосом, и никто на это не обижался.
Летчики сели на придвинутую к столу скамейку.
— Сыграли бы что-нибудь, товарищ командир, — попросил сержант Семенюк, намыливая щеку.
— Можно и поиграть, — согласился Карлов.
Он снял с себя комбинезон, натянул унты и встал, расправляя под ремнем гимнастерку. Кто-то уже вытаскивал из-под нар баян.
— А петь будете? — спросил Карлов.
Не дожидаясь ответа, он уселся поудобнее на табурет, растянул меха и, склонив голову набок, ухом почти касаясь баяна, как бы прислушиваясь к протяжным звукам, заиграл.
Раскинулось мо-ре ши-ро-ко,
И волны бу-шу-ют вдали...
Первым подхватил знакомую мелодию Анатолий Семенюк. Затем прибавился еще чей-то тенор, и вот уже разноголосый хор громко пел:
Товарищ, я вахты не в силах стоять, —
Сказал кочегар кочегару...
Переборами заливался баян. Песня брала за душу: