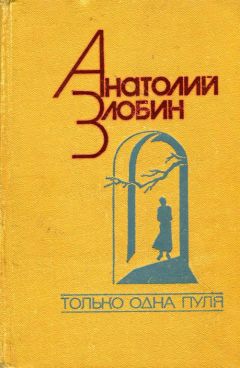Пыхтящая от нетерпения стая разделилась надвое. Два взвода пошли в сторону курсов, что мало обеспокоило Христича, поскольку там – никого. Остальные пробирались крадучись к дому, где дрыхли беспутные парикмахерши. Тося так и не набросила на себя чего-либо верхнего, темного, белела в темноте ангелом мщения, над черной землей, казалось, порхает белая бабочка.
Подошли. Все залегли у плетня или сели на корточки. Тося сжалась в комок, сплющилась, прижалась к калитке, пытаясь отодвинуть засов, но, видимо, побоялась скрежетом металла разбудить ненавистных ей обитательниц дома. Повела курсантов в обход. Произошла непонятная Христичу заминка, задержка, все объяснилось, когда мимо пробежал курсант с бидоном керосина. Пистолет трясся в руке Христича, прекрасной мишенью была сорочка Тоси, но руку кто-то заломил. От одного угла дома к другому перемещалась белая бабочка, махая белыми, крылышками, доливая стены керосином. Христич изогнулся, сбросил с себя, напавшего курсанта, ударил его, тот дернулся и затих. Тут бы и выстрелить, но (он с ужасом признался Андрианову) ему самому «огонька захотелось», он почувствовал в себе такую тягу к сожжению чего-то, не для огня предназначенного. Он, возможно, еще и струсил. За одним выстрелом последовали другие бы, и не отдельный дом на отшибе сгорел бы, а заполыхала б вся деревня.
Дом оказался горючим, пересушенным, как береста в подпечной выемке, дом вспыхнул так ярко и жарко, что плясавшая от возбуждения и радости Тося казалась черной на фоне пламени. Огонь поднялся к небу, клоки воспламенившейся соломы летели по ветру, в сторону курсов, к счастью. Чтоб никто из парикмахерш из дома не ускользнул, Тося закрыла дверь и подперла ее паленом, курсанты наставили винтовки на ставни. Дом ревел, пожирая себя в огне, и вдруг из пламени донесся женский голос, прорвался сквозь нарастающее гудение. «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке на берегу, на берегу… на берегу…на бе…» И смолкло, будто поющей перерезали горло. «Ну что дое..!» – в восторге заходилась Тося.
Христич отполз, поднялся и побежал к курсам, потому что услышал чавкающий взрыв мины, а затем и другой, третий. В белесой синеве предвосходного утра он увидел черные комья взлетевшей земли, мины падали с недолетом, они, вспомнил Христич, были немецкими, калибр их на один миллиметр меньше, только шестая мина попала в забор. Выбежавшие из Поскони, курсанта обогнали Христича, над полем разносилось «ура!» Командир Третьей роты сел на землю и понял, почему застрелился особист. Того страшила не высшая мера трибунала, а необходимость самому себе признаться в собственной никчемности.
Христича поднял наткнувшийся на него аккордеонист, и под рычание басовых нот они вместе дошли до пролома в заборе. Кое-где робко поплясывало пламя, уже гасимое курсантами. Звякнуло стекло, разбитое прикладом. «Сволочи! Все выгребли!» – орала на кухне Тося. Никто однако не хотел взламывать склад, как ни просила и ни умоляла она. С каким-то мстительным удовольствием Христич понял, что вот-вот наступит отрезвление, роте вернется разум, потому что попала она туда, где жила три месяца, где навыки привязаны к предметам военного обихода – к этим казармам, забору, гаражу, столовой. Рота сейчас опомнится, заскулит. Выждав еще немного, он разрядил в воздух всю обойму ТТ. «Рота-а-а!.. Становись!» Построились в две шеренги, повзводно. Три часа на сон, сказал Христич, три часа на дорогу, в полдень обязаны погрузиться в вагоны, Первая и Вторая уже сражаются с врагом, всем спать, спать!..
Сам же сел писать предсмертное письмо жене и детям, повинился во всем перед ними, поставил дату. Потом снял с пожарной доски топорик, пошел к складу, чтоб сбить замок, достать консервы и накормить подчиненных. Взмахнул топориком и опустил его. Дверь склада была приоткрыта, замок висел на одной петле, кто-то уже польстился на казенное имущество, и не кто-то – аккордеонист. Очумело озираясь, он вышел на свет, застегивая брюки. Христич заорал, едва не ударил: «Ты что, засранец, до уборной не мог дойти?» Странная улыбка блуждала на лице курсанта – и самодовольная, и виноватая, и стыдливая. Покончив с брюками, он сделал шаг вперед и, оправдываясь, зашептал: «Товарищ капитан, честное слово, не я первый, она сама по доброму согласию, и еще просила кого-нибудь прислать к ней…» Христич отпихнул его, вошел, щелкнул фонариком, свет – метнулся по мешкам и ящикам, пока не воткнулся в сидевшую на груде тряпья обнаженную женщину. Тося!
Он погасил фонарик, закрыл глаза, возвращая им нормальное зрение, а когда открыл их, увидел удлинившуюся белую фигуру. Тося легла. Христич рыскал по карманам, искал обойму, вогнал ее в пистолет. Выстрел поднял Тосю и погнал ее к пролому в заборе, она дважды падала, но тряпья из рук не выпускала. Курсанты спали так крепко, что никто не проснулся, а Христич долго стоял или лежал у забора, был полный провал памяти. Пробудил его запах горячей пищи. Он встал, шатаясь, на ноги, будто контуженный, выбрался из заваленного окопа. Ко рту его поднесли котелок с варевом, он сделал глоток, а потом влил в себя весь котелок. Приказал построиться.
Построились и рассчитались. Глаза смотрят либо в небо, либо в землю. Стыдятся. На левом фланге – минометный расчет, без ящиков, без лотков, без мин. Вновь мстительное чувство овладело Христичем: ну, грамотеи, еще до ночи понюхаете настоящего пороха!.. да так, что не откашляетесь! «Напра…» И разъяренный Христич сорвал с кого-то ППШ, в щепки разнес аккордеон, «…во!»
На Посконцы, на черное попелище никто смотреть не хотел. Через три часа подошли к станции. Незнакомый майор обрушился на Христича, обвиняя его в дезертирстве. «На второй путь, бегом, марш!» Майор не отставал от командира пропавшей роты: «Ты где был со своими?…Семихатка?.. Так, так… Немцев много?» Христич оттолкнул его. «Какие еще немцы? Два батальона погранполка…» Майор не сдавался: «Ой врешь!… Десант немцы высадили!»
Христич догнал тронувшийся эшелон, руку протянул подполковник, но не из 293-й дивизии, а из непонятно какой бригады. Договорились было о кормежке, но на очередной станции оказались рядом с танками под брезентом, нашли сопровождающих, те разрешили, курсанты перепрыгнули на открытые платформы. Поезд мчался на всех парах, по небу плавали легкие белые облачка, все самолеты летели в сторону фронта. «В сорок первом так бы вам ехать…» – не переставал злорадствовать Христич. Стемнело, когда остановились. Танки, пофыркивая и постреливая выхлопами, сползли на землю. Рота соскочила и построилась. Подполковник пропал, только что стоял рядом – и уже поглотился ночью. Курили, ждали, молчали, никто ни о чем не спрашивал. Вокруг – беготня, мат, угрозы. «Кому табачку?» – пообещал кто-то из темноты, но тоже пропал. Перед Христичем выросли три офицера, осветили его фонариком и дружески посоветовали сматываться отсюда, иначе будут расстреляны за уход с боевых позиций. Разорвалась бомба, метрах в пятидесяти, офицеров сдуло. Рота стояла. Автоматно-винтовочный огонь слышался отовсюду, но опытное ухо Христича распознало: стреляют не по живым целям, а наобум и со страза. «Где Тараканов? – свирепел чей-то голос. – Тараканов где?.. Усы оборву!» Вдруг рота сама повернула налево и зашагала. Догоняя впереди идущих, Христич наткнулся на исчезнувшего подполковника. «Туда! Туда!» – показывал тот. Куда – не сказал. Рота влилась в массу людей, вытекающих из какой-то дыры. Потом танки, туда же спешившие, распихали массу, она вновь сомкнулась, когда последний танк, пышащий жаром, скрылся в ночи, освещаемой всполохами далекого огня. Два часа топала рота, пока не напоролась на автоматчиков, пригрозивших всех перестрелять, всех! Христич тоже взялся за оружие. Помирились, потопали дальше. Повстречался наконец здравомыслящий человек. Он стоял у горящей эмки, водя пальцем по карте в планшетке, накидка скрывала его погоны. «Вы несколько запоздали…» – мягко укорил человек Христича, затем ровно сказал, что 293-я отошла на подготовленные позиции, роте курсантов надлежит занять оборону в километре отсюда, имея справа понесший большие потери полк 134-й дивизии, а слева… Карты у Христича не было, он поверил направлению пальца всезнающего и хладнокровного полководца. Начинало уже светать, рота повзводно ушла в предрассветную синь и сползла в траншеи. Здесь нашли ящики с патронами, трупы лежали в одной и той же позе – ничком. От полководца прибежал связной: быть готовым к атаке, пока немцы не закрепились. Раздавая патроны, Христич прошел по траншее, приговаривая: «Ребята, как вспрыгну и крикну – все за мной, ясно?.. Как вылезу наверх – сразу за мной, понятно?» За все свои фронтовые месяцы он четыре раза поднимал красноармейцев в атаку и дважды оказывался в госпитале, не сделав и пяти шагов после «за мной!» Опыт был, и когда две ракеты, зеленая и красная, взлетели, он, выбравшись на бруствер, не стал орать призывы, не сбивал дыхание, а, вытаскивая из земли тяжелые ноги, пошел по-над окопами, загребающим жестом показывая курсантам – ну, давай же, вылезай! Кося глазом, он видел, какими строчками шили пулеметные очереди, и определял, в какую сторону ему бежать, а по густоте пищавших, цвенькающих и гудевших пуль – с какой прытью. С ног свалилась тяжесть и они, легкие, понесли его вперед, он так и не увидел, поднялись курсанты в атаку или нет, потому что дальнейшее топтание на виду свело бы на нем все немецкие очереди. Ярко-желтый ком земли, вывернутый взрывом, был ориентиром, и Христич бежал, думая только о том, чтоб живым и невредимым достигнуть ярко-желтой отметины, а когда поравнялся с нею, заметил впереди зелененький бугорочек и теперь только этот зелененький бугорочек и видел. Плотность пуль разжижалась, из чего Христич понял, что курсанты наконец-то выкарабкались из окопов и поднялись, отводя от командира роты пересекавшиеся на. нем пулеметные очереди. Бугорочек проскочил под ним, глаза Христича нашли минометный, лафет, зигзагами он приближался к нему, хохоча над немцами, которые стрелять не умеют, и выбирал момент, чтобы упасть, перевести дух, чтоб подняться и побежать к той каске, что торчит из-под земли. И упал, но не перед лафетом, и пополз к нему, со злостью убеждаясь, что коленки ни во что не упираются, скользя и наполняя его болью, что и рука немощна. Земля, к которой он прильнул, вдруг приподнялась и упала, оказалась внизу, а сам он парил над нею. Христич потерял сознание. Открыл глаза и увидел себя рядом со знакомым ярко-желтым комом. Повернул голову: над ним было солнце во всю ширь небес. Ярко-желтый ком поехал от него, Христича поволокли. Потом его подняли и понесли, и несли долго. Положили. Услышал: «Ну, этот подождет… Тащи того, с животом…» Ни боли он не чувствовал, ни страха. Не испугался, когда из-под глаз убрали солнце, а затем и все небо. В нос ударил густой дух крови, парного мяса, санитарии, ноздри защипал эфирный ветерок. К губам поднесли водку, он выпил. Потом что-то стали делать с ногою, не его ногой, к Христичу будто привязали неизвестного голого человека, вытворяли с ним что – то безжалостное, страшное, человек этот дергался, стонал, мучился, дрожанием своего страдающего тела передавая боль и страх подвязанному к нему Христичу… Кажется, врачи доконали бессовестно искореженного ими человека, отвязали его от Христича, унесли. «Как зовут его? – спросил Христич. На него заорал врач: «Хватит придуриваться! Таким, как ты, раненым я в сорок первом винтовки раздавал!..»