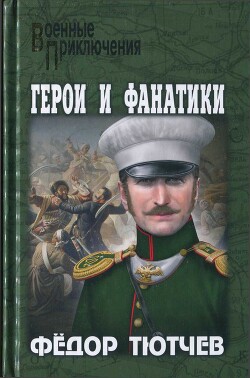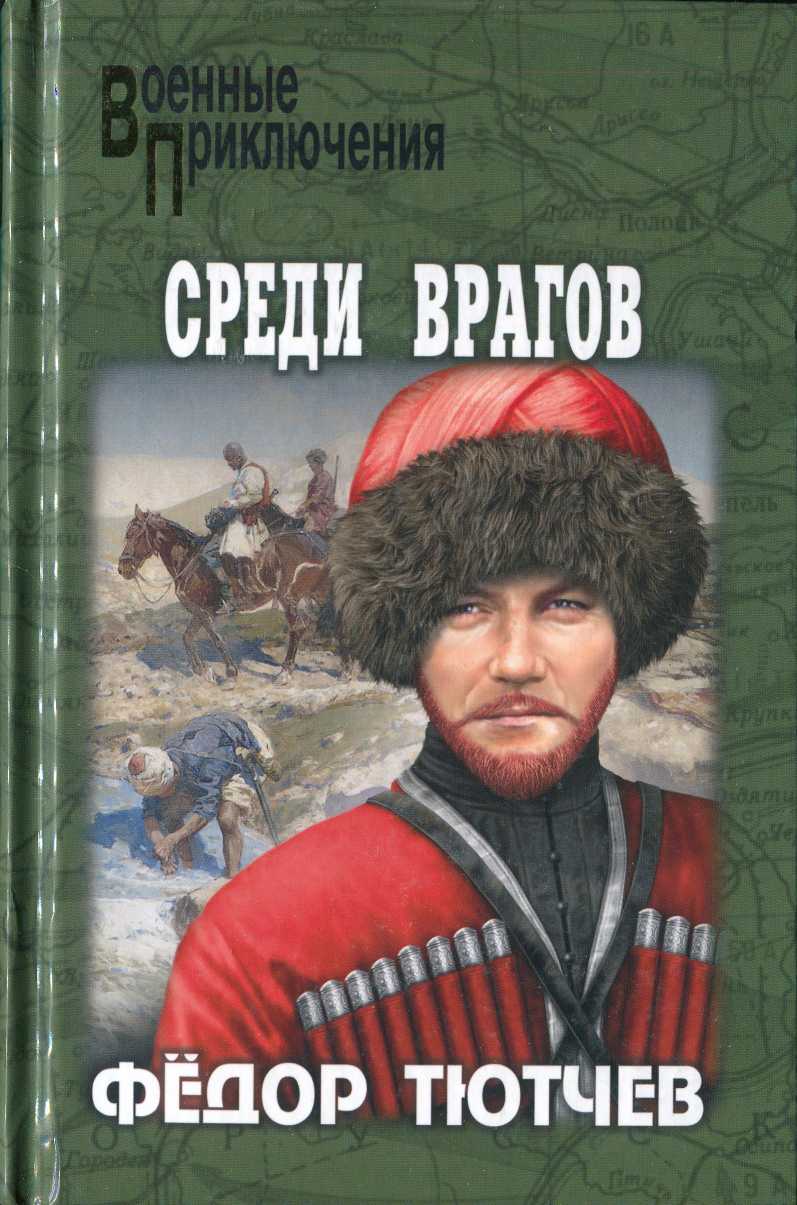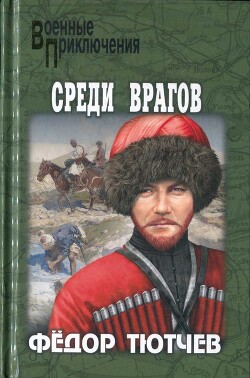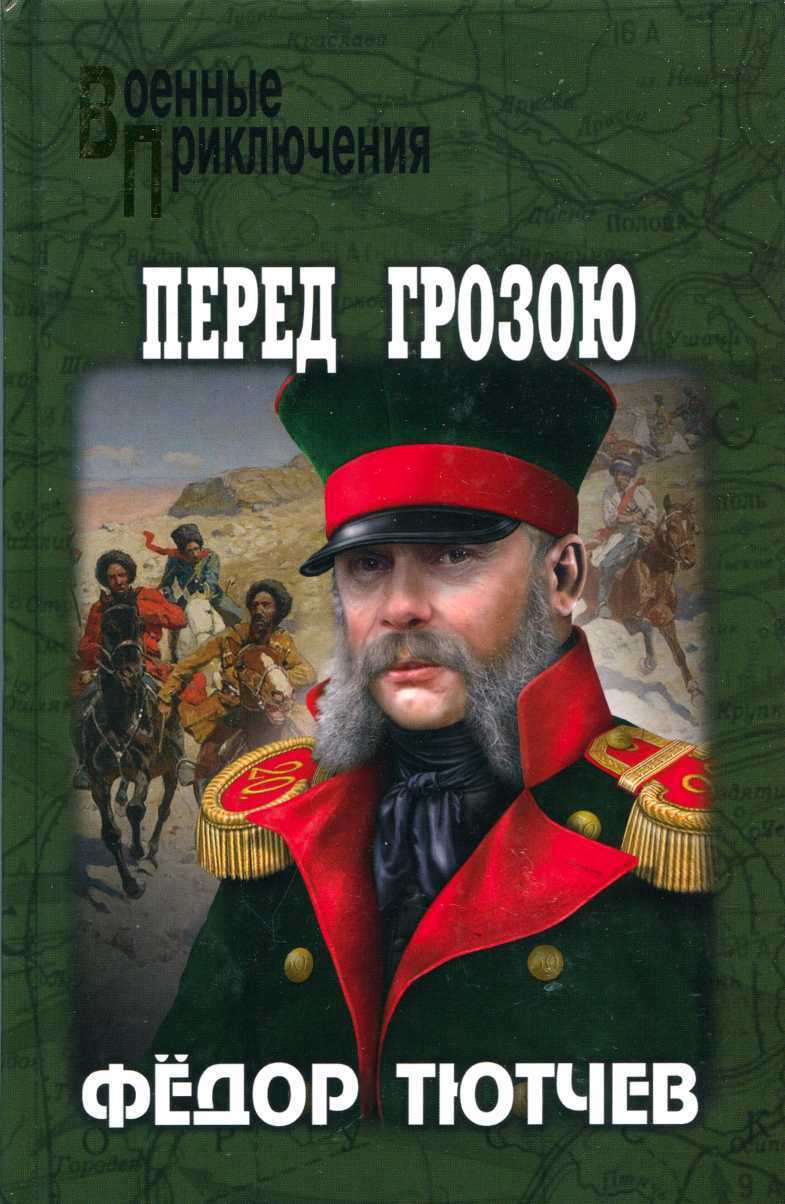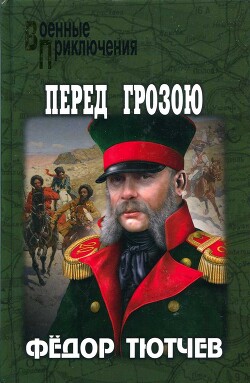30 мая войска генерала Граббе подошли к Аргуани. Несмотря на то что им пришлось преодолеть невероятные трудности при переходе через перевал Шугу-Меер и что большинство солдат спали всего каких-нибудь три-четыре часа и были измучены четырехдневным маршем по непроходимым, головоломным тропинкам, дух войска был прекрасный. Все радовались предстоящему бою, твердо веря в победу. Еще на походе, как только показались впереди скученные на вершине сакли Аргуани, генерал Граббе в сопровождении своей свиты объехал войска, здороваясь с ними и поздравляя с предстоящим делом.
— Братцы, — говорил он, обращаясь к солдатам, — в этом селении засел сам Шамиль, смотрите же, не упускайте его.
— Не упустим, ваше превосходительство, наш будет! — с радостным смехом хором отвечали солдаты, любовно провожая глазами своего отца-командира. О возможности поражения никому и в голову не приходило — такую уверенность в себе умел пробуждать в своих войсках один из крупных героев кавказской эпопеи, бесстрашный и хладнокровный в минуту самой большой опасности граф Павел Христофорович Граббе.
— Что вы такой сумрачный? — подошел к Колосову один из офицеров, поручик Мачихин, и, ласково хлопнув его по плечу, добавил: — Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил?
— А чему радоваться? — в свою очередь, спросил Колосов.
— Как чему? — удивился Мачихин. — А вон, — и он указал рукой на белеющие высоко над ними сакли аула, — боевой пир сегодня, праздник героев.
Колосов усмехнулся.
— Недаром вы, Мачихин, поэт; а по-моему, по-простому, не боевой пир и не праздник героев, а отвратительная, подлая бойня, человекоистребление… Снова польется кровь, липкая, скверно пахнущая, снова увидим вывернутые наружу кишки, треснутые черепа с вывалившимися из них мозгами, снова целый день наши уши обречены слышать пронзительные вопли и стоны раненых, плач женщин и визг детей, а ноздри — нюхать гарь сжигаемых сакль и чад поджариваемого человеческого мяса… Надо только удивляться, как вы можете, господа, во всем этом находить хоть какую-нибудь поэзию.
Иван Макарович раздраженно отвернулся.
— С тобой, Ваня, говорить нельзя. Ты какой-то юродивый, — с досадой проговорил Мачихин, — с такими взглядами, как у тебя, не в военную службу следовало идти…
— А куда?
— В монастырь. Вот куда.
Сказав это, Мачихин отошел от Колосова и присоединился к двум идущим впереди и о чем-то оживленно между собой болтавшим офицерам.
На Колосова последние слова Манихина произвели неожиданное впечатление.
«В монастырь! — думал он. — А что же, это мысль недурная».
В детстве он еще с родителями бывал в монастыре, и теперь ему вспомнились низкие, старинные стены монастырской ограды еще московского периода, с зубцами и бойницами, тяжелые, окованные железом дубовые ворота, усыпанные песочком и обсаженные деревьями аллеи, белый небольшой собор, скромно прячущийся в густой зелени парка, и две еще более скромные небольшие часовни, одна каменная, другая деревянная, с пестро расписанными, от времени потемневшими куполами, с словно игрушечными колокольнями, в пролетах которых мирно покоились старинные колокола, подаренные монастырю еще царем Алексеем Михайловичем. Справа и слева от въезда шли кельи. Ване особенно нравились эти низкие строения с крошечными окнами, в которые ласково заглядывали кусты густо разросшейся сирени и бузины; там было все так чисто, прохладно, чем-то неземным веяло из небольших комнат, бедно, но уютно убранных, за стенами которых, казалось, человеческая жизнь должна была протекать совсем по-особенному, без всякой суеты, дрязг и шума.
Колосову живо вспомнились ночлеги в этом монастыре. Нигде не просыпался он так рано, как там; наскоро одевшись, он в таком светло-радостном настроении духа, веселый и счастливый, выбегал в густой тенистый сад и в восхищении останавливался, опьяненный ароматом цветов и грохотом птичьего разноголосого крика. Ване казалось, что нигде птицы не кричат так громко и весело, как в монастырском саду. Настоящее царство пернатых. Не тревожимые, не пугаемые никем, птицы жили полной свободой, счастливые своей безопасностью. Серенькие, желтенькие, синеватые, розоватые, всех цветов и оттенков, они наполняли густые вершины столетних кленов, лип и берез и старались как бы перекричать одна другую в своем птичьем неистовом восторге.
Колосову сделалось вдруг нестерпимо грустно, воспоминаниями детства повеяло на него, вспомнились добрые старые лица родителей, теперь умерших, родительский дом, такой милый и уютный. Ах, если бы можно было сразу очутиться там, в мирной тишине сельского уголка, далеко-далеко от всего того, что так тяжело угнетает в настоящую минуту его душу… Ему вспомнилась штаб-квартира, дом Панкратьевых, Аня, и, странное дело, эти воспоминания не трогали его, не туда рвалась его душа; даже образ княгини поблек в его глазах, не к ней тянуло его, а все туда же, в густо заросший монастырский сад, где он когда-то бегал маленьким мальчонком в ситцевой рубашке, куда впоследствии юношей он приезжал на скромную могилу под белым каменным крестом, обсаженную кустами сирени, с зеленой скамеечкой и небольшим деревянным столиком перед нею.
Бум… бум… — рявкнуло впереди. Колосов поднял глаза. Облако беловатого дыма медленно расползалось в прозрачном, напоенном светом и теплом воздухе. Глухо гремел ворчливый барабан, ему вторил пронзительнорезкой трелью призывный рожок горниста. Колосов оглянулся: мимо него торопливо продвигались люди; лица у всех были серьезными, брови нахмурены; раздавались сдержанные вздохи и торопливый шепот произносимых наскоро про себя молитв… Наступал торжественно-грозный момент начала боя.
— Ну, братцы, — раздался подле Колосова чей-то взволнованно-возбужденный голос, — да как же «его» брать-то? Нешто на крыльях?
— Зачем на крыльях? — шутливо отозвался другой. — И пехом влезешь, как прикажут. Это тебе внове, а мы, братик, и не такие аулы брали.
Колосов оглянулся: разговаривали молодой солдат, недавно прибывший из России, и сивоусый кавказец с нашивкой на рукавах и Георгиевским крестом на груди.
Лицо молодого солдата было слегка бледно, а в широко открытых добродушных глазах отражалось любопытство, смешанное с невольным страхом, что же касается георгиевского кавалера, то он был совершенно спокоен, ни малейшего волнения не было заметно ни в его немного суровом коричневом лице, ни в серых серьезных глазах, смотревших прямо и смело перед собой на возвышающиеся впереди горы, где на краю скалистого, почти отвесного обрыва ютился аул.
Как и большинство чеченских аулов, Аргуани был построен амфитеатром. Каменные сакли, снабженные бойницами, шли ярусами, один выше другого, без всяких промежутков. Казалось, сплошная гигантская стена, составляя одно целое со скалою, на которой был расположен аул, возвышалась, преграждая путь. Узкая тропинка, едва-едва проходимая для арбы, круто поднималась вверх, со всех сторон сдавленная отвесными скалами.
В эту минуту батальону, при котором находился Колосов, было приказано остановиться. Иван Макарович воспользовался этой остановкой, чтобы осмотреться. Левее от него, в стороне от дороги, на возвышенной, ровной, как плацдарм, площадке стояла с жерлами, устремленными на аул, батарея из 8 орудий и конгривовых ракет. За орудиями, прикрываясь каменными глыбами, расположилось прикрытие: один батальон пехоты и спешенные казаки. Немного ниже, по глубокой балке, подобно серому гигантскому змею, извиваясь и сверкая штыками, торопливым шагом подвигалась обходная колонна: два батальона Кабардинского полка, горская милиция и два горные орудия. Впереди колонны на поджаром иноходце грузно покачивалась массивная фигура полковника Лабынцева. Бритое широкое лицо полковника, с небольшими усами и серьезным, несколько сумрачным взглядом было задумчиво, но спокойно. В его уме уже созрел план дальнейших действий, и теперь только одна смерть могла остановить его. «Вперед и ни шагу назад» — таков был девиз этого сильного духом человека, девиз, которому он ни разу не изменил за свою долголетнюю, блестящую службу на Кавказе.