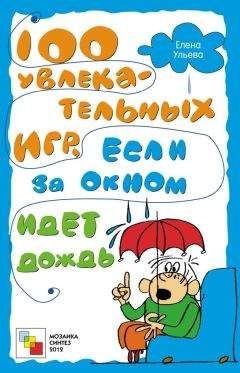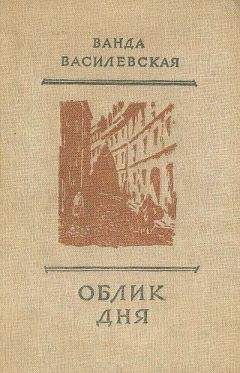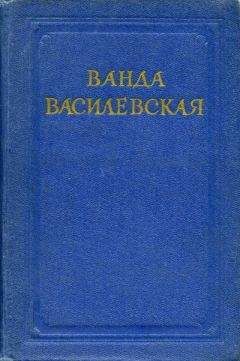С плеч внезапно свалилась непосильная тяжесть. Исчез злой кошмар, столько времени державший её в косматых лапах. Григорий жив, Григорий жив…
Если… если… если… великий боже, если не поздно… Не вынув ключ из замка, она пробежала коридор и ворвалась в комнату. Он был здесь. Живой. Сидел за столиком у окна и с трудом чертил что-то своей единственной левой рукой.
Было что-то детски беспомощное, детски жалобное во всей его фигуре, в том усилии, какое он вкладывал в свою работу, ещё не привыкши к своему увечью. Волна беспредельной нежности нахлынула на Марию. Она обижала ребёнка, беззащитного, несчастного ребёнка. Теперь она увидела ещё новый облик своей любви. Это был уже не только муж, любовник, товарищ, — это было единственное, любимое дитя, которое нуждалось в её покровительстве, помощи, в её нежной заботе. Не знакомое ей прежде тепло залило её сердце.
— Гриша!
Она бросилась к нему, упала на колени, обхватила его руками. Он был тут, тут, её Гриша. Она чувствовала близко-близко тепло его тела. Она захлебнулась счастьем.
— Марийка, — сказал он не своим, напряжённым голосом. Она почувствовала на волосах его руку. Взглянула счастливыми глазами. Да, да, это был её Гриша. Лицо её Гриши, смятое злой рукой войны, глаз, который обожгло пламя вражеского снаряда, вдавленный вглубь. Швы, шрамы, рубцы. Впервые она смотрела на них вблизи. И увидела их теперь иначе. Нет, неправда, что были дни, когда из-за этих шрамов и рубцов она не увидела своего Гриши, своей любви, своего счастья, своего единственного человека. Радость горела высоким-высоким пламенем. Он существует, он живой, можно прижаться к нему, почувствовать его руку на волосах, можно услышать, как громко бьётся его сердце…
— Марийка, — повторил он ещё раз. И Мария увидела, что в его глазах стоят слёзы.
Она встала. Обхватила руками любимую голову и прижала её к груди.
— Гриша, Гриша, Гриша… — повторяла она. Вот она разыскала его после долгого пути. Вот она выходит из мрака в солнечную, лазурную долину. Целый мир держала она в объятиях, целый мир. Рассеялся дурной сон. Бесследно исчез кошмарный сон. И вот она явь — живой Гриша. Она прижалась губами к светлым волосам. Какие мягкие, какие тонкие у Гриши волосы, какой знакомый запах…
— Ты жив! Жив! Жив! — шёпотом повторяла она, захлёбываясь своей внезапной, счастливой радостью. Она не опоздала, ничто не пропало, ничего не перечеркнули ледяные пальцы смерти…
— Ты жив! Жив! Жив!
Она присела на ручку кресла, прижалась к мужу. Ей не хотелось ни на минуту выпустить его из объятий, найденного, возвращённого издалека, живого, собственного, самого близкого человека на земле.
Он обнял её, но теперь её сердце не дрогнуло при мысли, что другой руки нет. Ведь есть её руки, молодые, здоровые, сильные руки. И его рука — всё та же, загоревшая, большая, мужская рука.
— Гриша, Гриша, Гриша…
Она покачивалась в такт этим словам, качая и его, как мать качает на руках дитя. Он был с ней, её дитя, её любовник, муж, весь мир в её объятиях.
Губы коснулись высокого лба, тёмных бровей, ясных глаз Гриши, его губ. Из глаз лились слёзы. Чьи это были слёзы — её или Григория? Они текли вместе, смешивались, и на губах вкус их был солон и сладок. Они смеялись сквозь эти льющиеся слёзы, смеялись из уст в уста тихим, счастливым смехом.
Нет, он ни о чём не спрашивал. Тут не нужны были никакие объяснения. Они снова были, как прежде, — сердце к сердцу, глаза, утонувшие в глазах, глаза, понимающие всё без слов.
Текли секунды, минуты, часы… Вдруг взгляд её упал на циферблат часов. Она вскочила.
— Боже, как поздно! Я тебя уморю голодом. Гриша, давай устроим бал! Я вчера получила бутылку вина. Приглашаю тебя к себе!
— Принимаю приглашение! — склонил он голову в шутливом поклоне.
Сколько раз бывало прежде — свободный вечер, планы, куда бы пойти. В театр? Наверно, уже нет билетов. В кино? К знакомым? И наконец: «Знаешь, лучше всего устроим сами себе приём».
И всё, как к приёму гостей: чистая скатерть и самые лучшие тарелочки и единственный хрустальный бокал для папирос. Две рюмки: «Твоё здоровье, Мария! — твоё здоровье, Гриша!»
И потом ещё долго вспоминали: «Помнишь, как мы тогда поздно легли, сколько времени проболтали?»
Мария засуетилась. Белая вышитая скатерть. Ничего, если она уже кое-где заштопана. Два стаканчика. Сыр и консервы, бутылка вина.
— Где это штопор? Открой, Гриша, — сказала она неосторожно, ставя на стол бутылку, и окаменела.
Но Григорий лихо тряхнул волосами.
— Есть открыть бутылку!
Он сжал бутылку коленями, взял левой рукой штопор, и через минуту бутылка была открыта.
— Прошу покорно…
— Ах, какой воспитанный! — рассмеялась она.
Григорий наливал вино, она придвинула стулья.
— Прошу сесть напротив, чин-чином.
— Нет, нет, я хочу тут, рядом…
Почувствовать тепло его плеча. Быть вплотную к нему, близко-близко. Чтобы ничто не отдаляло, не отделяло их друг от друга, чтобы ничто не стояло между ними.
— Твоё здоровье, Марийка…
— Твоё здоровье, Гриша…
Вино было терпкое и пахло далёким солнцем, виноградом с холмов под светлым и чистым небом. Солнце? Что это там говорил Воронцов? Собственно, он сказал только одно: что если бы не Соня…
— Ты жив, жив, жив! — запела она вдруг высокой, водопадом льющейся трелью.
— Вот так открытие!
Она улыбнулась, потёрлась щекой о его щеку. Это смешно, но ведь она только сегодня поняла, что он жив. Всё счастье этого слова, весь его радостный, победоносный смысл.
— Твоё здоровье, Гриша…
— За победу, Маруся…
— За победу…
Стаканчики зазвенели, как настоящий хрусталь. Вино было терпкое и пахло виноградом с далёких холмов, бодрящим, радостным запахом.
— Спой, Гриша…
Она закрыла глаза. Песенка Гриши, та самая песенка. В широкую степь, на простор родной страны вышел молодой парень, Гриша. Ветер развевает его светлые волосы, ветер несёт крылатую мелодию. По степи идёт молодой парень, Гриша. Он широко распростёр руки. На славное дело идёт Гриша, и чистый ветер дует ему в лицо.
Голос Гриши, его голос. Нет, никто не пел эту песню так, как он. И там, в Берёзовке, и потом, и в мыслях, когда она была одинока и слышала голос Гриши, поющий где-то тут, вблизи, а быть может, только в её сердце…
Вот оно счастье, суровое и правдивое, глубочайшее счастье любви. Вот он, её Гриша, тот же, что в Берёзовке, тот же, что под яблонью, возвращается к ней с далёких путей войны, и она должна помочь ему, поддержать его в борьбе, которую он повёл со своим увечьем, в труде, который он решил продолжать своей единственной рукой…
Что же это был за дикий и невероятный кошмар в течение последнего месяца? А может, это лишь снилось — дурной сон?
— Марийка…
— Что, милый?
— Прости меня…
Она испугалась.
— Что такое, милый?
— Там, тогда… Видишь ли, мне показалось…
Она поняла.
— Ничего, ничего… Не нужно, хорошо так, как есть… Ах, как хорошо!..
Да, да, он усомнился в ней, хотел уйти, бежать, хотел скрыться, оставить её одну, хотел быть для неё мёртвым. Не эта ли минута его сомнения породила в ней то зло, не его ли сомнение бросило в её душу чёрное зерно, которое разрасталось злой травой и душило, затемняло жизнь? Кто первый виноват и кто дал начало? Кто первый согрешил против жизни, против веры, против любви? Теперь, впрочем, это было неважно, теперь всё было хорошо — она и Гриша, Гриша и она — беспредельное счастье…
— Спой, Гриша.
Его беспощадно изуродовала рука войны. Но ведь ничто же не изменилось — это был он, её Гриша. Она находила его голос, и его улыбку, и его взгляд. Вокруг собрались все минувшие дни, связавшие их друг с другом, большие и маленькие радости, мимолётные печали и печали глубокие. Нет, этого не могли вычеркнуть, стереть, изменить вражеские штыки, вражеские удары. Гриша был Гришей, и так уж будет всегда, до конца жизни.
Но теперь слово «конец» было пустым, бессодержательным, не имело никакого значения, теперь было начало жизни, её светлое утро, восходящий день, юный и радостный.
— Гриша, Гриша, Гриша…
— Марийка…
Да, это был лишь злой, невероятный сон. Одну минуту она хотела вызвать в памяти то, что почувствовала, увидев его в тот день, понять, как это могло случиться. Но увидела только знакомое, такое знакомое лицо, любимые черты, которые она столько раз целовала. Рубцы, шрамы — это было нечто внешнее, нечто несущественное. Гриша остался Гришей, и этого ничто не в состоянии было изменить. Ни его голоса, ни его улыбки, ни всего того, что было в нём самое существенное, что было действительно им.
Григорий был, как родная земля, изуродованная рукой врага. Родные города зияли ужасающими ранами, страшными шрамами. Родная земля была попрана ногами захватчиков, железными гвоздями их сапог. Чёрные шрамы ожогов уродовали города и деревни, стройные здания фабрик и заводов были вдавлены в землю, перестали существовать посёлки, на земле лежали искалеченные леса. И в сто раз более любимой стала сейчас родная земля, в сто раз больше хотелось отдать ей все силы, чтобы залечить её раны, чтобы вернуть её к прежней жизни, чтобы она снова расцвела улыбкой под ласковым солнцем свободы.