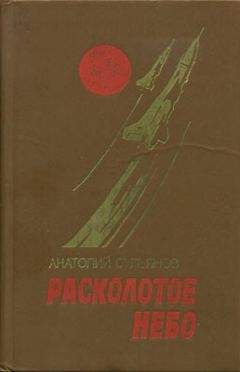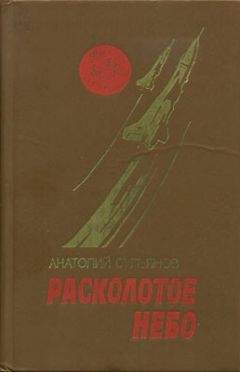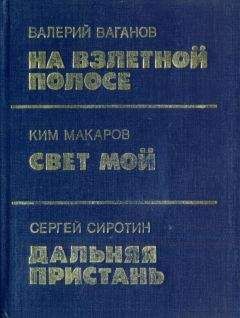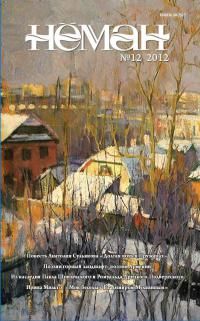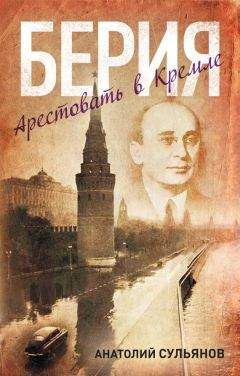— Главное в нашем деле — не спешить. Машина, сынок, хоть и не имеет сердца, а чувствует к себе отношение. Сделал кое-как, заспешил, глядишь, стоит в борозде. Не посмотрел вовремя. Машина ухода требует, рук умелых да глаза хорошего.
В армию Михаила провожали всей деревней. На прощание отец сказал:
— Просись в танковые войска. Ты тракторист, тебе сподручнее.
Но военком рассудил иначе: десятилетка, технику любишь, исполнительный — иди в авиацию.
Так Михаил попал после окончания школы младших специалистов к технику Муромяну. Посмотрел при знакомстве и испугался: усищи черные, глаза блестят, голос басовитый! Ох и достанется тебе…
К радости Михаила, техник Муромян оказался человеком не злым, отзывчивым, охотно взялся помогать ему в изучении самолета и двигателя. Они сдружились и работали рука об руку, как братья, вместе до темноты торчали на стоянке, если приходилось менять двигатель, шасси или проводить на самолете регламентные работы.
Северин заметил усердного механика и на комсомольском собрании предложил избрать Борткевича в бюро эскадрильи. У замполита было какое-то, только ему одному известное чувство на хороших людей; он почти не ошибался в своих оценках. Горит парень на работе, любое задание выполняет с огоньком, сам выпускает машину в воздух, летчику помогает. А тот в свою очередь доверяет технику жизнь. Сколько раз видел, как летчики скупо благодарили своих техников… Не ошибся Северин и в Борткевиче. Через год предложил написать рапорт для поступления в авиационное училище.
— Послужишь техником, потом можно и в академию или высшее инженерное училище. Если надо дома посоветоваться, отца с матерью послушать, поезжай.
Мать узнала о желании сына и заплакала. Отец долго ходил по хате, скрипя половицами, курил. К вечеру высказал свое мнение:
— Конечно, колхозу нужны трактористы. Но замена тебе есть, — кивнул на младшего брата. — Через два года на твой трактор сядет. Да и я еще годков восемь — десять поработаю. А вот Родину защищать — это, сын, тебе поручаем. Всей семьей даем наказ: служи честно.
Вернулся Борткевич — и рапорт на стол замполиту. Тот посмотрел, улыбнулся:
— Вот и хорошо. Мы в комитете посоветовались и решили предложить тебе, Михаил, заявление о приеме в партию написать.
Вчера этот разговор был. А сегодня беда стряслась. Позор! Лучший самолет в полку и — пожар в воздухе. Как теперь смотреть в глаза людям? А если бы летчик растерялся? Настоящая беда… Как же так? Неужели недосмотрели? Нет, не может быть. Помнил, что после заправки закрывал горловину. Или это было после первого полета?
Все перепуталось в голове Михаила. Какая-то стена вдруг встала между ним и остальными, отгородила его от всех, отодвинула от ухоженного им новейшего истребителя.
«Прощай, мечта! Не быть мне теперь техником. А что дома скажу, когда демобилизуют? Отец на порог не пустит. Скажет, я воевал, трижды ранен, а ты нашу фамилию…»
Он прижался к Муромяну, ища в нем опору, и едва слышно всхлипнул.
— Не скули! — сквозь зубы прошипел Муромян и взял Михаила за локоть. — Будь мужчиной.
Эдуарда Муромяна судьба по белу свету помотала вдосталь. Служил на востоке, в Заполярье, теперь вот пятый год здесь. Техник отличного самолета. Первому доверили подготовить и выпустить в воздух новую машину. В офицерском клубе его портрет на стенде: «Лучшие офицеры гарнизона». Неужели он виноват, что в полете возник пожар? Скорей бы уж инженер полка что-нибудь определенное сказал, нет сил больше ждать…
Черный неторопливо поднялся по лесенке к кабине, шагнул на плоскость. Придерживая фонарик локтем, достал из кармана длинную отвертку. Открыл небольшой круглый люк, сунул в него руку, нащупал там маховичок и попытался потянуть на себя.
Борткевич схватил холодную руку Муромяна и замер.
— Все нормально, горловина закрыта, товарищ командир! — Черный удовлетворенно потер руки, спустился на землю. Увидел, как от нахлынувшей радости заблестели глаза Борткевича, как облегченно вздохнул Муромян, и еле заметно улыбнулся им.
— Буксируйте машину на стоянку и зачехляйте под пломбы, — приказал Горегляд Муромяну. — Утром прилетит комиссия, она и определит причину пожара.
Степан Тарасович Горегляд по натуре был человеком добродушным, любил ввернуть в официальные указания и инструкции какое-нибудь словечко, наподобие «гуси-лебеди», что означало высшую степень расположения духа. Любил летать и летал много, в любую погоду, даже тогда, когда не видно было конца посадочной полосы. Но другим этого делать не разрешал и, прежде чем начать полеты в «сложняке», на разведку вылетал сам.
Сын Горегляда Алексей с детства мечтал стать летчиком. Как ни отговаривала мать, поступил в летное училище. Письма писал редко, но зато подробные, обстоятельные, не раз спрашивал у отца совета. Приехав в отпуск, целые дни пропадал на аэродроме, среди летчиков. Горегляд не без гордости как-то сказал Северину: «Хороший парень, гуси-лебеди! От инженера не отходит, вот, брат, что радостно. В новой машине с его помощью каждый винтик перещупал».
Когда сын уехал в училище, Горегляд засел за психологию. Академию окончил давно, знания повыветрились, да тогда этой самой психологией интересовались мало. Больше жали на тактику, увлекались играми на картах, требовали каллиграфического исполнения на них всех знаков и цифр. Чертить он не любил с детства и считал игры на картах лишней тратой времени. Рабочая карта командира должна быть простой. Обвел карандашом нужный район, нанес число боевой техники, линию фронта, сигналы взаимодействия — и в бой. А они просиживали вечера напролет ради четких линий и красивых цифр. К чему это, когда то и дело меняешь аэродромы, когда летчики вылетают по тревоге, получая самые разнообразные задачи!
Он не жалел, что когда-то отказался пойти инспектором в Москву. Как-никак в полку ближе к летчикам. Да и полеты обязывают всегда быть в форме. Спортом бы заняться, да когда? С утра и до позднего вечера, а иногда сутками на службе: то полеты, то тренировки, то учения. А люди… Когда людьми заниматься? Спасибо политуправлению — хорошего хлопца комиссаром прислали. Гора с плеч свалилась с приездом Северина…
Когда Степан Тарасович Горегляд прибыл в гарнизон Сосновый, многие ждали, что новый командир тут же начнет, как это нередко бывает, ломать устоявшиеся в полку порядки, поучать всех, устраивать частые зачеты. Но он, представившись офицерам, обратился к ним с необычной просьбой:
— Первое время полк учит командира, а уж потом командир руководит полком. Прошу помочь мне изучить людей и технику. Обещаю одно: работать придется много. По всем вопросам разрешаю обращаться в любое время суток.
Кое-кого эта просьба смутила — уж не гонится ли полковник за дешевой популярностью? Но вскоре все поняли — нет. Просто такой у него характер.
Степан Тарасович знал, что жесткие требования к возрасту вряд ли дадут ему возможность и дальше продвигаться по службе. Потолок… Другой бы сник, руки опустил, а он по-прежнему работал с полной отдачей сил.
Главной его заботой и радостью было небо. Небу он отдавал всего себя, жестко спрашивал за упущения в подготовке к полетам, гонял комэсков и инженеров, много летал сам. История авиации, размышлял вслух перед летчиками Степан Тарасович, писана кровью, даже малейшее отступление от законов летной службы грозит бедой. Кажется, что особенного, если сегодня на немного отступлю от инструкции, завтра еще чуть-чуть. А эти отступления накапливаются. И прежде всего — в человеке. Позволил себе в малом нарушить, значит, можешь и в большом. Отклониться от маршрута, не выдержать режим полета, допустить ошибку в расчете. Вон старший лейтенант Кочкин в прошлый раз вышел на приводную станцию на высоте ниже заданной, а другой летчик в это же время мог оказаться выше и — поцеловались бы над приводом.
— Самое позорное в воздухе — недисциплинированность. Кого в наши дни удивишь бочкой на малой высоте или еще каким крючком? — спрашивал Степан Тарасович и сам отвечал: — Никого!
Он любил вот такие, не предусмотренные наставлениями беседы-размышления, когда можно свободно высказаться о самом главном в жизни авиаторов — о полетах, дать советы молодежи, приструнить тех, кто подчас легкомысленно относится к законам летной службы. В это время Горегляда никто не беспокоил ни телефонными звонками, ни просьбами, ни предложениями; все знали, что командир весь в себе и посторонними, не связанными с полетами делами заниматься не будет, а если кто и осмеливался прервать беседу, то получал строгое внушение или выставлялся за дверь.
Однако вчера настойчивый стук в дверь прервал его, Горегляд, едва сдерживая раздражение, подошел, выслушал торопливое, не совсем внятное сообщение дежурного. Что могло — случиться с Алёшкой? Полеты в училище в полном разгаре. Неужели беда?.. Постоял, потер виски. Объявил перерыв, поднялся к себе. Домой звонить не стал — жена телеграмму получила, сразу заказал междугородную и принялся ходить по просторному светлому кабинету.