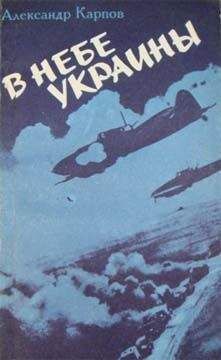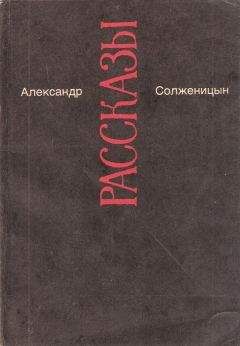Остаются считанные секунды до сброса бомб. Устрашающим шлейфом тянется за самолетом комэска густой дым. Вот-вот вспыхнет огонь, и тогда, как знать, — удастся ли поразить цель. Чаще всего горящее масло воспламеняло бензин и происходил взрыв. В таких случаях мало что помогало пилоту, пусть у него семь пядей во лбу.
Хитали, всегда умевший быстро взять себя в руки, призвал на помощь все свои силы и знания. Он не увеличивал обороты мотору, не закрывал масляный радиатор бронещитком, управляемым из кабины; он знал, что перегрев опаснее осколков зенитных снарядов. Захар высчитывает секунды, вымеряет расстояние до цели.
Наконец все шесть соток сброшены. Умудренный боевым опытом, комэск не поверил своим глазам, когда в воздух поднялся огромный фонтан воды с остатками разрушенной переправы. Неважно было чьи это бомбы, его или Головкова, главное, что задание выполнено.
Не снизься летчик на предельно малую высоту, мог бы избежать прямого попадания зенитного снаряду, но тогда вряд ли поразил бы цель с первого захода. А второго захода могло и не быть.
Но радость сменяется горечью. Мотор, дернувшись в судороге, неожиданно замер. Невыносимо от сознания, что не дотянешь до своих, что нет ни малейшей возможности вселить дополнительную силу в двигатели. Может не хватить нескольких секунд — и тогда придется садиться на вражескую территорию. Захар лихорадочно высчитывает секунды и вывешивает самолет на критический угол атаки, мысленно ругая на чем свет стоит тот проклятый снаряд, который заставил остановиться мотор.
Он уже мысленно прикинул, сколько еще может пролететь. Хотя бы приземлиться на нейтральной полосе! Быть может, самый разумный маневр последних секунд его полета состоял в том, что он точно определил конфигурацию линии фронта, направив свой самолет к небольшому выступу, который резко врезался в расположение немецких войск. Там он мысленно определил точку приземления самолета.
Под крылом окопы, траншеи, тянущиеся вдоль невысокого берега реки. Частым лесом стоят на пути вражеские стволы артиллерии. Быстро проносится передний край врага. Впереди — нейтральная полоса. Самолет все еще послушен, хотя высотомер уже давным давно на нуле.
«Ильюшин»… У него, по мнению Хитали, повадка мыслящего существа: ты к нему с душой, с заботой и лаской — и он откликнется, не подведет в трудную минуту, откроет такие неисчерпаемые, дремлющие в нем до поры до времени запасы прочности, о каких поначалу летчик не мог и помышлять.
Чуть в стороне Захар видит несколько чьих-то танков. Один из них, стрельнув сизым дымком, срывается с места и направляется наперерез садящемуся самолету. Что-то заставило Хитали податься всем корпусом вперед. Наверное, обостренное чувство приближающейся опасности подсказывало летчику, что встречи с врагом не избежать. Взяв полностью ручку управления на себя, Хитали еще раз окинул взглядом выбранную им посадочную площадку. Винт царапнул землю, мотор со скрежетом сунулся в грунт, и тут же все три лопасти, согнувшись в бараний рог, бесследно исчезли под броней двигателя. Самолет резко затормозил. Летчика по инерции бросило вперед, на приборную доску. В глаза ударила сухая, жесткая, как стальная стружка, пыль. Машина, уткнувшись носом, приподняв правую плоскость вверх, неподвижно распростерлась на земле.
Превозмогая боль, Хитали схватился за фонарь кабины, но его заклинило при посадке. По лицу струилась кровь, это от удара о приборную доску.
— Командир, танки! — крикнул Яковенко в форточку кабины.
Летчик впервые видел так близко эти приземистые грозные машины.
Изломанная траншея в расположении обороны наших войск была настолько близка, что, казалось, до нее можно дотянуться рукой. Однако комэск с точностью до десятка метров знал, как велико расстояние, разделявшее его от наших.
Он отчетливо видел вражеские танки. Рука невольно потянулась к пистолету. Но силы покидали его. Хитали уже не слышал сержанта Яковенко, не чувствовал ног, они словно в вате утонули — ни боли, ни ощущения, ни привычной опоры под ступнями.
Вдруг совсем рядом взревел мотор и в глаза уперлись два желтых огня. Грохот двигателя сотрясал землю.
— Свои! — неистово закричал Яковенко, силясь сбросить фонарь с кабины летчика.
Хитали очнулся. Перед глазами прямо по кустарникам, напрямик к его самолету, несся танк. Слышатся хлопки выстрелов, тяжелые рыки моторов. Танк останавливается, и из люка выскакивает танкист в черном комбинезоне.
Увидев над собой грязное, небритое лицо и замасленный черный шлем, Хитали спросил:
— Кто ты?
— Отошел! — обрадовался танкист. — Мы давно за тобой следили. Думали, не дотянешь. А тут немцы подоспели. Представляешь?! Ну, конечно, пришлось охладить пыл фрицев. Сам понимаешь, не могли же мы тебя на нейтральной оставить. Почти из-под носа у них выхватили. Правда, одну тридцатьчетверку потеряли…
Не скрывая радости, Хитали похлопывает по плечу Яковенко, крепко пожимает руку танкисту, который, рискуя жизнью, спас их.
Комдив, организовавший с вечера поиск экипажа, был несказанно рад, встретив живыми и невредимыми Хитали и Яковенко. Он смотрел на них, и в его светлых, блестящих глазах теплилась радость. Казалось, подполковник помолодел.
Комдив сделал все, чтобы быстрее доставить экипаж к месту. Но как быть с Хитали теперь? Ведь не запретишь ему летать. Пусть даже эскадрилья без него временно обойдется, но он, Хитали, без эскадрильи и часа прожить не мыслит.
Ноги сами понесли Захара Хиталишвили на аэродром, а там на стоянку, авось, да и найдется для него самолет. Желание сразиться с врагом бушует в крови комэска, и он уже не чувствует ни боли, ни усталости. Впереди Латвия, Литва, Восточная Пруссия. Впереди очень много дел.
А там, за каждой сотней километров, и логово фашизма — Берлин.
XXXIНе найти среди нас, ветеранов, такого, кто мог бы забыть своего командира. Навсегда остался и в моей памяти подполковник Василий Николаевич Рыбаков — командир нашей 206-й штурмовой авиационной Мелитопольской дивизии.
Человек он был не из робких, и в критический момент, не дрогнув, дорого отдал свою жизнь.
Разве мог тогда кто-нибудь из нас подумать, что за два месяца до конца войны Василия Николаевича не станет? Мне понадобились годы, чтобы найти воздушного стрелка Кондрашова и узнать от него подробности гибели комдива. Встретившись с глазу на глаз с врагом, подполковник Рыбаков предпочел смерть плену.
Может, когда-нибудь в Литве на том месте, где принял последний бой комдив, будет воздвигнут памятник, который напомнит людям о героизме советского офицера, дравшегося до последнего патрона, а последним покончившего с собой.
С годами стираются детали, зато отчетливее, ярче вырисовывается то главное, существенное, что отличало комдива от других: мужество, мастерство, смелость, большие знания, огромная любовь к людям.
Наш корпус перебрасывается на Литовское направление. Садимся в местечке Ширкшинай. Кругом израненная, обожженная войной литовская земля.
С перелетом на Первый Прибалтийский сразу началась интенсивная боевая работа. Приходилось туго — надо было изучить район боевых действий, ввести в строй молодежь, «ловить» погоду. А погода здесь не баловала солнечными днями.
Хорошо, что комдив Рыбаков перед отлетом на это направление организовал ночные полеты на самолете «По-2».
Вначале казалось непонятным, зачем летчикам-штурмовикам ночная подготовка? Со временем поняли, что без этой подготовки трудно бы пришлось здесь в Прибалтике. Сам по себе ночной полет исчислялся двумя-тремя часами, но как пригодились нам эти часы! Приобретенный опыт полетов по приборам облегчал освоение полетов в сложных метеорологических условиях днем.
Прибалтика впоследствии не раз экзаменовала летчиков, и этот экзамен был выдержан с честью.
В землянке комдив Рыбаков и комэск Хитали не отрывали взгляда от карты. Красный карандаш командира дивизии прошелся вдоль железной дороги, затем неожиданно остановился на железнодорожной станции Резекне.
— Здесь! — проговорил он, поворачиваясь к Хитали. — Через этот железнодорожный узел противник продолжает проталкивать один за другим воинские составы. Надо во что бы то ни стало воспрепятствовать этому движению.
Хитали задумался. Задача вроде проста и понятна: нарушить железнодорожное движение, нанести удар до обнаруженному эшелону. Но решить ее не так-то просто.
— Далековато, — озабоченно произнес комэск. — Почти двести километров.
С сосредоточенным видом, мысленно проверяя каждого летчика в отдельности, Хитали решает, кого можно будет выпустить на боевое задание; одновременно он намечает маршрут и производит штурманский расчет. От напряжения у Захара залегла на лбу глубокая складка, брови сошлись к переносице. Но вот он вскинул глаза на комдива и утвердительно произнес: