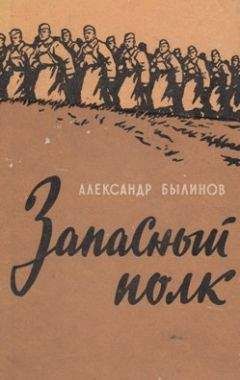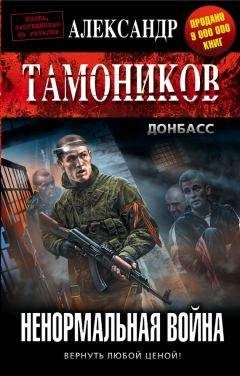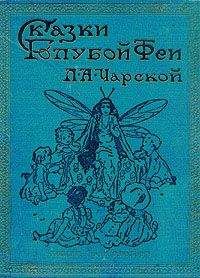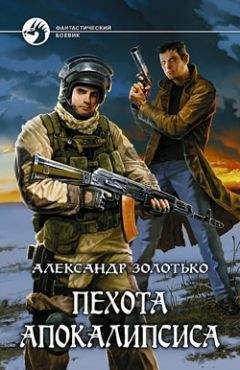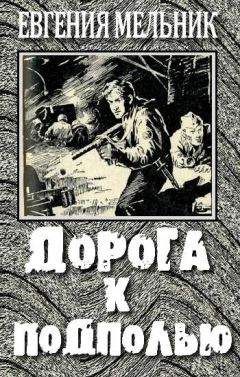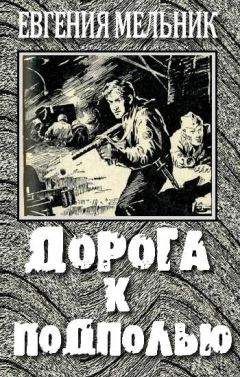Щербак молчал. Молчал и Кочетков.
— Верю, что избавится он в конце концов от всего наносного, фальшивого. А вы хотите... в порядке «профилактики»... Видите, вот он танцует и даже не подозревает, что мы сейчас дружно выпьем за его высочество...
Беляев улыбнулся каким-то своим мыслям и налил четыре стопки до краев.
— Борский, — позвал он, когда танец кончился.
Борский подошел и встал навытяжку перед комбригом.
Беляев подал ему стопку. Все встали.
— За вас, Борский. За честь и достоинство офицера. За следующее воинское звание.
Они выпили, и Беляев заметил, как дрогнула рука Борского, выдавая волнение.
Оркестр молчал, шум в зале стал стихать.
— Товарищи, внимание! — громко провозгласил Щербак.
Все взоры обратились к столу, за которым сидели старшие командиры.
— Вы слышите, товарищи, как бушует вьюга? — спросил Щербак. — Черные силы фашизма вот так же хотят сломить нашу волю к борьбе, хотят сделать нас рабами, без света, без тепла, без наших праздников и без веселья. Проклятый зверь терзает нашу Родину. Но, товарищи, великая зреет победа! Выпьем же за победу, она с нами, здесь!
Беляев внимательно оглядывал столы. Он искал Наташу. Они не виделись с того дня, дня премьеры. Но вся его жизнь вдруг как бы наполнилась новым смыслом. Так чувствует себя стрела на туго натянутой тетиве. Странно, что Наташи нет сегодня. Неужели Щербак забыл пригласить и ее, и ее мать?
Беляев хотел было спросить у Щербака о Наташе, но сдержался.
Снова загремел оркестр. Снова поднялись и пошли танцевать пары. Встал из-за стола и Беляев. Пора бы ей появиться — вечер в разгаре. В голове шумело от выпитого. Он никогда не умел веселиться. Не умел любить как следует. Он хотел счастья. Но его маловато на земле. Особенно в эти дни. А что есть счастье? Разве не в этой дружной солдатской семье оно? Не в счастливой ли минуте, когда «под знамя — смирно!» и клинок дрожит на плече от волнения? Не в ротах ли, утомленных и запыленных, но идущих вперед?
Он беспокойно оглядел зал и встретился взглядом с Аренским.
Аренский ответил улыбкой на его улыбку и, оставив стол, за которым сидели веселые артисты, подошел к Беляеву. Он немножко выпил, и рыжий хохолок у него на голове колыхался, словно ковыль на ветру.
— Товарищ полковник, — сказал он восторженно. — Прошу извинить... — И замолчал.
Молчал и Беляев. Потом налил стопки, и оба, звонко чокнувшись, выпили.
— Я виноват, — сказал Аренский. — Я, конечно, во многом виноват, товарищ полковник. Вы знаете, как сложилась жизнь... Мой отец... Но вы все знаете. Мне только хочется сказать: я теперь могу уехать. Вы гуманный человек!.. — Аренский серьезно посмотрел на полковника. — Еще хочу сказать: в память о нашем комиссаре Соболькове мы ставим Лопе де Вега... — Голос его стал тверже, он поднял руку. — Лопе де Вега! «Собака на сене», Теодоро и Диана... Мы утверждаем жизнь! Мы сделаем веселый спектакль, чтобы все радовались... Теодоро и Диана... Парадокс. Однако... — И, внезапно сникнув, Аренский снова превратился в подвыпившего актера-лейтенанта, который виновато топтался перед Беляевым. Беляев улыбнулся и пожал ему руку. Аренский выполнил свой долг. Пусть поверит полковнику.
— А где же ваша разведчица?
— Ах, дочь полка... Не знаю, не вижу, товарищ полковник. Задержалась, вероятно, у Сорочьей балки, — ответил Аренский, довольный тем, что нашелся и вспомнил место переправы разведчицы из пьесы.
А Беляев уже заторопился к выходу. Он увидел Наташу. Пришла наконец...
Она стояла у стены, тяжело дыша. Изморозь покрыла ее волосы, выбившиеся из-под платка. Она была хороша, и Беляеву захотелось сказать ей об этом. Но в глазах ее он прочитал смятение.
Когда он подошел, она, судорожно глотнув, сказала, точно не ему, а самой себе:
— Папу убили.
И, с трудом оторвавшись от стены, распахнула дверь и, пошатываясь, ушла прочь.
— Наташа!
Но она даже не оглянулась. Побежала и растаяла в ночи.
Первым движением души было догнать Наташу. Он успел бы ее догнать, остановить, прокричать ей что-то в свистящей пурге, взвалить на свои плечи всю тяжесть вины за совершившееся. Но тут подошел Щербак. Он, видимо, заметил замешательство у дверей.
— Что случилось, товарищ полковник? — спросил он.
— Беда, Иван Кузьмич убит, — ответил Беляев. — Найди Агафонова. Пусть шинель принесет... — И он прислонился к тому месту у стены, где только что стояла Наташа. Щербак кинулся в зал, а подле тотчас очутился Агафонов с полковничьей шинелью через плечо и папахой в руках. Он все время наблюдал за комбригом.
Ординарец напялил на него шинель.
— Куда пойдем, Саша? — устало спросил Беляев.
Агафонов, недоумевая, переглянулся со Щербаком, который уже вернулся к выходу.
— Никуда не надо, товарищ полковник, — с несвойственной ему мягкостью сказал Щербак, — Глядите, какая метель.
— Пойду, — сказал Беляев.
В зале оркестр играл польку, и пары носились по сырому полу. Оставаться здесь, слушать это все было невыносимо.
— Я пойду, — еще раз сказал Беляев. — Ты извини меня, Щербак. Вы тут продолжайте.
— Может, отбой дать, товарищ полковник? Как прикажете?
— Зачем отбой? Продолжайте. Только не ходите за мной, слышите?
Беляев вышел, и Агафонов рванулся было за ним, но Щербак остановил его.
— Не ходи, чудак, не надо. Пусть он один... Понимаешь? То-то же... Ай, беда какая...
Порыв ветра чуть не свалил Беляева. Натянув папаху на уши, он продвигался еле заметными тропками, занесенными снегом. С трудом вытаскивая ноги из сугробов, он прошел мимо освещенных окон, за которыми еще шумел праздник.
Где-то здесь только что прошла Наташа. Ветер уже замел ее следы, и она исчезла.
Безотчетный страх внезапно охватил его. Что он наделал?! Зачем черт пригнал его сюда, в Оренбургскую степь, зачем свел с Мельником?
Беляев не замечал ни режущего ветра, ни жестокой снеговой дроби, бившей в лицо. Он упрямо шел наперекор вьюге, словно в этом отчаянном своем упорстве находил целительное облегчение.
Подошел к занесенной снегом избушке командира полка, где побывал однажды, накануне отъезда Мельника. Тускло светились окна, покрытые ледяными узорами. Ни одного звука не доносилось из дома. Внутри — смятение и горе, а здесь — холодное, мертвое молчание.
Надо постучать в окно, стащить с головы смушковую папаху. Беляев прислонился к стене дома, ветер здесь был слабее, и, думалось, пора бы ей услышать, почувствовать его присутствие здесь.
Постучать, однако, не хватило сил, и он, с трудом выбираясь из снежных наметов, двинулся в обратный путь. Подходя к полковым строениям, он услышал сквозь завывание ветра далекий звон бубенчиков и понял, что это кто-то из командиров, может быть Борский, помчался на поиски Зайдера и Неходы. Он снова подумал о Борском: «Вот ведь не ангел, а делает шаги к добру».
Горькое чувство не покидало его, и он решил не возвращаться в полковой клуб. Домой, в одиночество, тоже не хотелось. Он снова побрел в темноту ночи. Однако не сделал и десятка шагов, как его окликнули.
— Эй, кто там?
Беляев остановился.
— Это я, Немец, завскладом, — послышалось уже ближе. — Какой леший тут ходит? А ну-ка...
Узнав командира бригады, Немец на мгновение опешил, но, быстро справившись со смущением, продолжал как ни в чем не бывало:
— Зачем, товарищ полковник, в одиночку по такой погоде пошли? Можно замерзнуть. Чи не заблудились часом? А может, прости господи, чарочку-другую ради праздника зверх лишнего... Конечно, извиняюсь за це…
Полковник молчал.
— Да что мы, в самом деле, тут стоим? — сказал Немец, внимательно всматриваясь в лицо Беляева. — Пойдемте до меня в склад, перегреетесь трошечки. Пойдемте, товарищ полковник...
Беляев послушно следовал за ним. Они вошли в склад. Немец подвинул Беляеву стул.
— Вот фамилии моей все дивуются, — продолжал он, — а я знал одного дядьку под фамилией Светсолнцекамень, убей меня, если брешу. Или нашего командира полка, к примеру, фамилия Мельник. Мельник-то все в муке, а этот нынче... Чи не знаете, товарищ полковник, что случилось? Не слыхали?
— Слыхал, Немец. Слыхал...
— Геройской смертью, говорят... в атаке на Волге. Душевный был человек. До меня, простого сержанта, прощаться пришел. Вот тут, на этом стуле, сидел... Настоящий был командир.
— Настоящий? Это точно знаешь? — спросил полковник, поднимая взор.
— Настоящий, а чего ж? До кажного подход имел. Может, в чем и сплоховал, не знаю, начальству виднее. — Немец замялся, увидев, что полковник встал и нервно теребит свою папаху.
Беляев вышел. Он снова подставил разгоряченную голову свирепому ветру, разгулявшемуся по краю, не находя ни тепла, ни покоя своей душе.