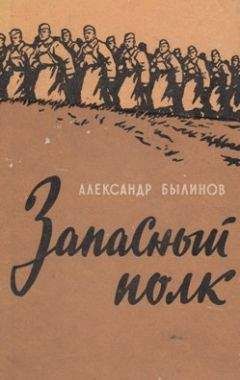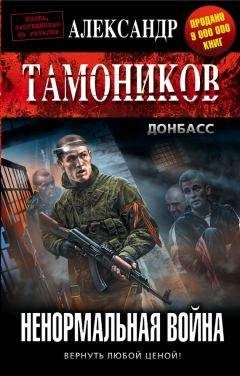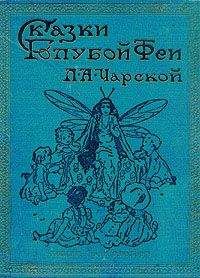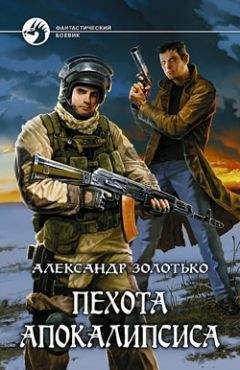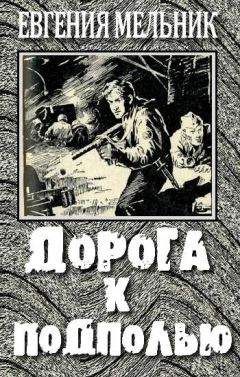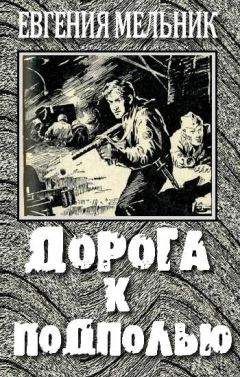Беляев вышел. Он снова подставил разгоряченную голову свирепому ветру, разгулявшемуся по краю, не находя ни тепла, ни покоя своей душе.
Выйдя из клуба, Борский направился в конюшню.
По раскрасневшимся лицам ездовых видно было, что они тоже праздновали.
— С праздником! — поздравил их Борский.
— С праздником, с праздником! — отозвались ездовые.
— Придется запрягать, — сказал Борский, пройдясь по каморке и наблюдая, какое впечатление произведут его слова. Но ездовые бровью не повели.
— Как прикажете? Чего закладать?
Они были уверены, что капитан шутит. Они любили его за веселый нрав и даже ветренность, из-за чего он нередко попадал впросак, — об этом знали в полку, но более всего уважали за любовь к лошадям и тонкое их понимание. Когда прибывала новая партия, он обязательно приходил в табун и с видом знатока определял стати коней.
— У этой коровий постав. Не годится. Длинные бабки. Что за лошадь? Свиной зад, не видишь, что ли, вислозадая? А этот, эх, мать честная, до чего хорош, конь трех ключей, дончак, морда сухая, прелесть!
Ездовые привыкли к его шуткам.
Но нынче он не шутил.
— Запрягай Пульку. Поедешь ты, Василий. Готовь два, нет, три тулупа.
— Товарищ капитан, — взмолился ездовой, — куда же ехать в такую стынь? Леший так закрутит, что и хвоста у лошади не увидишь, нешто вам жизнь надоела?
— Не разговаривать! — крикнул Борский и почувствовал, как последние остатки хмеля улетучиваются из головы.
Ездовые молча переглянулись, и высокий, широкоплечий, с приплюснутым носом Василий стал не спеша собираться.
— Куда подать? — спросил он.
— Отсюда поедем. Водка есть?
— Непьющие, товарищ капитан, видит бог.
— Не хитрите!
— Трошки спирта.
— Взять с собой.
— Куда же это вы все-таки, товарищ капитан, в такую ночь?
— Людей искать. Людей, понимаешь?
— Дезертиров, что ли?
— Людей, говорю. Побыстрей, Василий!
Василий молча вышел за дверь. Холодный воздух ворвался в комнату, пар заклубился в дверях.
Через несколько минут резвая Пулька мчала сани по глубокому снегу. Ветер заметно ослабел, хотя поземка все еще кидала снег в лицо. Борский закутался в тулуп. Рядом с ним сидел Василий, слегка отпустив вожжи и привычно чмокая губами.
Пулька рвалась вперед, мерно поскрипывали оглобли, легкие санки подскакивали на ухабах. Борский ощущал каждое движение сильной лошади.
«Застоялась», — привычно отметил он.
Тщетно вглядывался он в черноту ночи, силясь хоть что-нибудь увидеть. Он уже понимал, что путешествие предпринял опасное и почти бесцельное: в такую пургу отыскать танк — все равно что иголку в стоге сена. Но что-то звало его вперед, тянуло на риск, к опасности.
Слова комбрига еще звучали у него в ушах. Он им докажет. Докажет Кочеткову, Щербаку — всем, что он не мальчишка, не хвастун, не «иранский принц». Спасибо Верочке. Она вела его крутой и правдивой стежкой. Она стала необходимой... Когда танцевали, он рассказал ей о своем разговоре с полковником и Щербаком, а она ущипнула его и сказала: «Ты должен поехать! Ты не такой плохой, каким кажешься им, ты должен доказать всем... В степи замерзают люди. И ты их спасешь. Ты докажешь, какой ты на самом деле! Поедем вместе». И он понял, что поедет, — один, конечно, — что не может не поехать, что без Верочки он в жизни пропадет. Он поцеловал ее...
Лошадь вдруг остановилась, запрядала ушами и тихонько зафыркала.
— Что случилось? — спросил Борский, отвлекаясь от своих мыслей.
— Волки шалят, должно, — равнодушно ответил Василий и снова зачмокал губами. — Но, хлопочи, хлопочи, миляга.
Но Пулька, не двигаясь с места, мотала головой и храпела, готовая вот-вот отпрянуть.
— Вот те раз, — протянул Борский. — Не было печали.
Ездовой встал с саней, вышел вперед и, схватив Пульку за повод, повел, приговаривая: «Давай, давай, миляга, ишь ты, серого испужалась. Главное — дорогу не потерять».
Это успокоило Пульку. Она двинулась вперед и затрусила рысцой. Оглянувшись, Борский увидел далеко за санями две бледно светящиеся точки, то исчезавшие, то появлявшиеся вновь.
Он беспокойно ощупал на боку пистолет. Пусть волки, пусть опасность, тем лучше! Он докажет. Полковник поверил в него.
Василий взмахнул кнутом.
— Неподалеку деревня, небось не ухватят.
Пулька понесла резвее.
В приливе озорства Борский вытащил пистолет и выстрелил в воздух. Выстрел гулко разнесся по степи, эхом ударился о деревья перелеска, утонул в сугробах. И снова наступила тишина, только скрип оглобель и трудная работа Пульки, временами увязавшей в снегу, нарушали безмолвие ночи.
Ветер слабел, — казалось, пурга устала от собственного буйства. Но сначала она все перевернула в степи, изменила знакомый рельеф местности, будто замаскировала от налета с воздуха. Где полагалось быть оврагам, намела сугробы и начисто обнажила все холмы и пригорки.
Проехали еще с километр. Мороз пробирал сквозь полушубки, ноги в валенках замерзали. Лошадь шла ровнее, и Борский, закрыв глаза, задремал. Вдруг Василий резко толкнул его.
— Не они ли? — Ездовой указывал кнутом на какую-то неясную громаду, одиноко черневшую шагах в двадцати от дороги.
Борский вскочил.
— Тут и деревня недалече. Люди-то, может, в избах... — крикнул ему Василий.
Но Борский уже не слушал. Проваливаясь по пояс, он побежал к танку. Дойдя до оледеневшей металлической глыбы, он тронул рукой железо, точно желая удостовериться, что это действительно танк, а не мираж. Потом он взобрался на башню и заглянул в люк.
— Эй! — крикнул он. Никто не отзывался. — Люди, эгей! — снова крикнул Борский и, вытащив пистолет, дважды выстрелил в воздух.
Он спустился вниз и начал кружить, напряженно вглядываясь в темноту. И тут он впервые за долгие месяцы по-настоящему пожалел о своем втором глазе, выбитом на фронте осколком мины. Отходя все дальше и дальше, Борский описывал круги вокруг танка. И вдруг, уже отчаявшись, увидел две чернеющие фигуры, полузанесенные снегом. Он бросился к ним.
— Зайдер, Зайдер, проснись! — кричал Борский, пытаясь поднять воентехника. Тот еще не замерз, жизнь еще теплилась в нем. — Зайдер, проснись!..
Воентехник открыл наконец глаза. Ничего не понимающим взором он уставился на Борского.
— Как же это тебя угораздило, дорогой? Эй, Василий, водки!
Борский и Василий принялись растирать оружейников спиртом. Утомленными глазами смотрели полузамерзшие на своих спасителей, и только Зайдер, как бы сквозь стопудовую тяжесть сна и усталости, произнес вполголоса:
— Борский... Ты...
— Я, я... А то кто же?.. Лежи, лежи, брат. Сейчас доставим в тепло.
Танк стоял всего лишь в ста шагах от ближайшей, теперь уже ясно видимой избы. Здесь и заночевали четверо военнослужащих из запасной бригады. Зайдера и Неходу раздели, опять растерли спиртом и салом, уложили в теплую постель, и Борский долго сидел над ними, словно оберегая их глубокий сон.
Немцы под Сталинградом окружены! Эту весть принес полковнику Беляеву редактор бригадной газеты. Проваливаясь в сугробы, он добрался ночью до квартиры полковника, разбудил его и сообщил содержание только что полученного сообщения «В последний час».
— Выпускайте наутро листовку, — сказал полковник.
— Есть, выпускать листовку! Наборщики уже не спят. Вообще, я не знаю, как можно спать в эту ночь.
Полковник улыбнулся.
— Не знаю, как вы, а я ложусь.
И он действительно лег. Но заснуть не смог. В эту ночь свершилось нечто необычное и значительное. Почему же тогда люди спокойно спят, почему он сам так легко отпустил взволнованного редактора, первого человека в лагере, поймавшего в эфире эту счастливую весть? Должно быть, все великие события совершаются и воспринимаются людьми в первый миг просто, без пафоса.
Чутьем солдата он понимал, что именно в эту ночь колесо войны повернулось в обратную сторону.
И вдруг явственно представил себе Москву, Красную площадь. Неподвижно стоят припорошенные снегом ели у Зубчатой стены. Так же неподвижны часовые у Мавзолея. Знают ли они о случившемся? Москва спит, утомленная ратным днем. Не спят в Ставке. Телеграфная лента ползет из-под колесика, шуршит в пальцах, льется, как драгоценная струя, которая напоит завтра миллионы людей, утолит их жажду победы. Левитан уже произнес эти строки у микрофона. Наборщики во всем мире набирают слова победного сообщения. А полководцы водят цветными карандашами по карте, намечая новые удары и контрудары, подтягивая резервы, вводя в бой все новые соединения, новые части... «Может быть, впервые за этот год они уснут по-настоящему», — подумал Беляев.