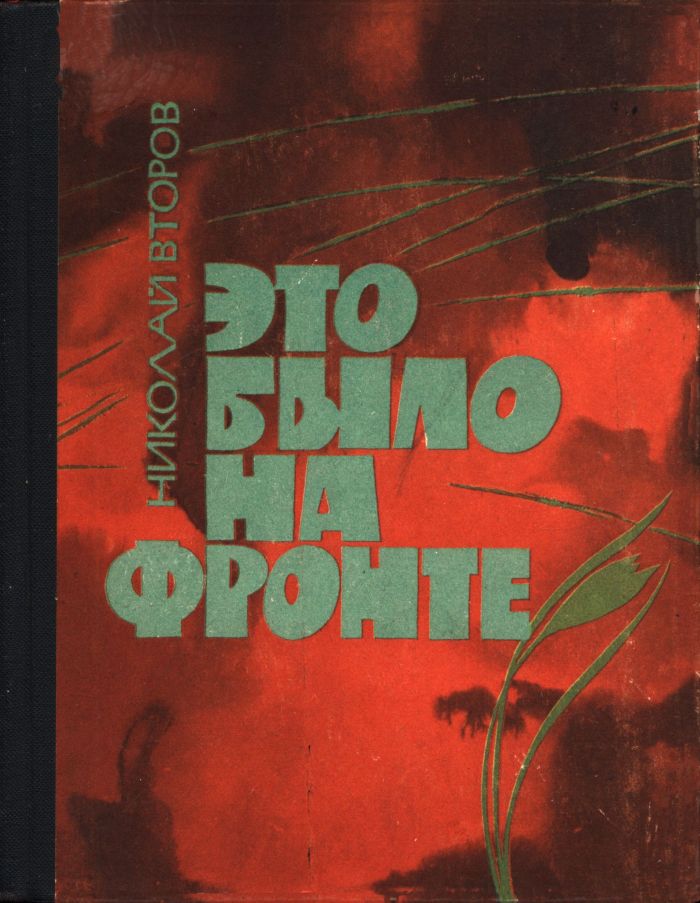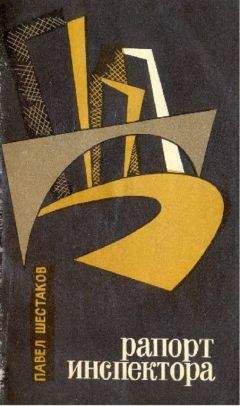время пехотные полки развернут по два батальона и пойдут в наступление. Противник вынужден будет обнаружить еще часть своих огневых средств, и наша артиллерия обрушится на вновь выявленные цели.
Прошу крепко запомнить следующее: наши пехотные части ни в коем случае не должны зарываться. Как только противник введет в бой главные силы — немедленно отходить на исходные позиции и обороняться. Даже в том случае, если нам вначале удастся где-то вклиниться в оборону противника. Помните, что наша цель не наступление, а выигрыш времени. Поэтому не рисковать! Не оставлять надолго пехотные подразделения на открытом месте. В случае контратаки — а она будет, и, вероятно, не одна — тоже отходить и, маневрируя при отходе на теперешние позиции, использовать в полную меру наши оборонительные возможности.
Наша главная ставка на артиллерию. Таков мой план. Какие вопросы и предложения?
— Как со снарядами, товарищ полковник?
— Снарядов не жалеть. Хватит! Так я говорю, товарищи артиллеристы?
— Так точно, товарищ полковник. Снарядами запаслись.
— Будут ли у нас танки?
— Нет, танков у нас не будет. Авиация поможет, еще артиллерийскую часть и минометы подбросят. И за это спасибо.
Больше вопросов не было. В заключение полковник сказал, что подробный приказ командиры частей получат за двенадцать часов до начала операции. А пока готовиться и соблюдать строжайшую тайну.
— Помните, если немцы опередят нас, изменив срок наступления, все наши планы не будут стоить выеденного яйца.
Поскольку немцы свой главный удар нацелили в стык пехотных полков, где занимал позиции артдивизион, огневые точки противника на этом участке и система ориентиров в дивизионе капитана Костромина приобретали особое значение. Его небольшая артиллерийская часть давно занимала одни и те же позиции, имела длительное время для наблюдения за противником и засекла много целей. Теперь цели эти должны были стать общими.
Почти до самого вечера артиллеристы сидели за картами и планшетами, устанавливали порядок ведения огня, систему связи и сигналов.
Командир артполка подбросил Костромина и Громова до полпути на своей машине.
— А вы правильно сделали, — сказал командир полка капитану, — что прибыли пешком. Я-то здесь новичок, и мне часто приходится ездить в штаб дивизии, так что не так заметно.
— Мне легковая не положена, — улыбнулся капитан, — а брать грузовик не хотелось: водители — народ словоохотливый.
23
С вечера Костромин и Шестаков вместе обошли батареи. Никаких особых указаний они не делали. Просто убедились своими глазами: все в порядке, люди на местах. Объявили о возможной ночной тревоге. Это тоже было обычно: начальство из дивизии не раз проверяло так готовность дивизиона. О предстоящем бое, кроме Костромина и его замполита, не знал никто.
Прощаясь до завтра, Алексей Иванович сказал:
— Без вас тут почта была, и вам письмо. — Он достал из сумки запечатанный конверт, протянул Костромину, пошутил: — Тяжелый. Ну, да своя ноша не тянет. Ответ будете писать — от меня привет не забудьте.
Придя к себе в землянку, Костромин сел за стол, поближе к коптилке. Вскрыл конверт, стал читать письмо невесты.
Между ними все было решено, они хотели пожениться. Но мать Веры, все еще красивая, молодящаяся женщина, пожелала, чтобы Костромин «походил в женихах». Он воспринял тогда причуду будущей тещи с улыбкой. Хуже было то, что мать Веры, побывав вместе с дочерью в однокомнатной квартире жениха, вознамерилась принять Костромина после свадьбы в лоно семьи и своей обширной, богато обставленной квартиры. Костромин воспротивился. Он твердо стоял на своем: женатые люди должны жить самостоятельно. Так он заявил и матери и отцу Веры, ответственному работнику в системе торговли. Но настойчивые уговоры продолжались. По этому случаю даже свадьбу отложили. В женихах Костромин уже дохаживал месяц. И вдруг — война.
Читая письмо, Костромин машинально достал из кармана портсигар, но, не закурив, положил его на стол. Перечитал еще раз строчки, где Вера опять писала об аспирантуре: «Я благодарна папе за то, что он надоумил меня поступить в аспирантуру. Как он говорил, так все и получилось: меня приняли без особых хлопот. В прошлом году даже конкурса не было, теперь ведь учиться на стипендию трудно и желающих продолжать учебу после института гораздо меньше…»
Костромин открыл портсигар, с силой стал разминать папиросу. Бумага лопнула, и табак высыпался.
— Черт! — выругался Костромин и закурил другую папиросу, не разминая. — «Теперь ведь учиться на стипендию трудно», — прочитал он вслух. Когда это — теперь? В войну, значит. А кому трудно? Тем, у кого нет состоятельных родителей. А у Веры есть папа. И она будет жить не только на стипендию. И будет учиться, хотя институт закончила так себе, средне, и в мирное время ей не попасть бы в аспирантуру.
Значит, война пошла ей на пользу? «Вздор! Чепуха! — мысленно прикрикнул на себя Костромин. — Сгущаешь, пересаливаешь… Кому-то надо учиться в аспирантуре, и разве виновата Вера, что отец ее занимает ответственный пост? Хотя… Почему же она ушла из школы, где преподавала химию? Почему ушла с завода, где работала лаборанткой? Химики-то нужны. Ведь могла бы в аспирантуре учиться заочно…»
Костромин вздохнул, не заметил, как пепел с папиросы сыпался ему на колени. Он взял предыдущее письмо, вынул фотокарточку. Она, похожа. Только вот шубка — ведь сейчас май… Интересно, а какая она была бы в гимнастерке? Этого Костромин представить не мог. Он оглядел свою гимнастерку, хлопчатобумажную, успевшую выгореть. Мысленно поставил себя рядом с Верой в беличьей шубке. В мае… Нелепость!
«Нет, надо отдохнуть, — подумал Костромин, — эти мысли от усталости. Немного отдохнуть и подумать обо всем еще».
Он встал из-за стола, вышел из землянки освежиться. Поднимаясь по ступенькам и глядя на зарево от всходившей луны, он вдруг попросту пожалел Веру: «И все же трудно ей там, в аспирантуре!» Но, словно в наказание за уступку, мелькнула встречная жесткая мысль: «А Юлии Андреевне, например, легко? Или ее отцу тогда, в сарае, было легко?»
Теплая ночь мерцала звездами. Большая луна в зареве поднималась на горизонте, не успев еще оторваться от израненной земли, освещала все вокруг красноватым тревожным светом. В низине, ближе к оврагу, нестройным хором тянули лягушки. Соловей в кустах щелкнул и умолк, словно застеснялся, что его чистая, как родниковая вода, песнь сольется с откровенно сладострастным лягушачьим кваканьем. Далеко правее забухало зенитное орудие, луч прожектора скользнул по краю неба, опустился, выхватил из темноты верхушку сосны.
Костромин медленно шел по траве в сторону тыла, дышал глубоко, всей грудью. В его мозгу проносились и фразы полковника на сегодняшнем совещании и строчки из письма Веры, но это не мешало ему воспринимать