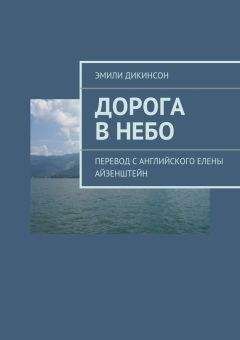Ребенок успокоился, но продолжал сердито глядеть на меня.
— Строгие вы тут, — сказал я.
Мы стояли в темных сенях, она не приглашала меня в комнату.
— Нет у вас географической карты Украины?
— Правобережье или Левобережье? — быстро спросила девушка и взглянула прямо мне в глаза.
— Зачем мне Правобережье? Вы ведь знаете, куда я иду.
— Вы мне не сказали, — ответила девушка уже более ласково. — Заходите!
В хате было сумрачно, ставни были закрыты только со стороны улицы, а в сад они были открыты, и голые ветви печально глядели в хату.
Целую стену занимала географическая карта полушарий. Я подошел к карте. Как старые знакомые, взглянули на меня Гренландия и Аляска, а вот и Цейлон и Ява. Если поискать, найдешь и остров Барбадос.
— Люблю географию, — сказал я.
— И я! — вздохнула девушка.
За перегородкой, где при моем входе зашушукались и как бы что-то спрятали, притихли — очевидно, прислушивались.
— Самый мой любимый предмет, — сказал я.
— Пятерки получали?
— Дело не в пятерках. Вот и сейчас стою перед картой, и все кажется мне близким и знакомым, будто я побывал всюду, а в детстве так иногда мне даже снилась Австралия.
Девушка засмеялась.
На стене висел отрывной календарь с красной цифрой «8».
— Что, сегодня восьмое ноября? — спросил я.
— Восьмое.
— Так, значит, праздник?
— Да, праздник, — тихо сказала девушка.
На улице послышался шум и крики. Девушка открыла ставню и выглянула.
— Началось! — сказала она. Она отнесла ребенка за перегородку, накинула платок и выбежала из хаты.
Я пошел за ней.
По улице двигалась толпа. Немного впереди ее, в центре, шел дородный румяный мужчина в городском пальто и важном картузе. Толпа наступала на него со всех сторон.
— Не согласны! — кричала высокая костлявая солдатка.
— Не согласны! — вопили со всех сторон тощие бабы.
Но на все крики и возражения румяный продолжал идти, спокойно отвечая:
— Новый порядок, граждане.
Костлявая солдатка выбежала вперед и заступила мужчине дорогу:
— Постой-ка! — Не отрывая глаз, она глядела на него, еле удерживаясь от желания вцепиться в эти розовые щеки.
Анна Николаевна остановилась у калитки.
— О чем они? — спросил я.
— Обсуждают севооборот, — сквозь слезы улыбнулась она.
Говорили все сразу, каждый кричал о разном, своем, и, однако, вся эта странная двигающаяся сходка говорила об одном и том же. В конце концов я понял, что речь идет о разделе колхозных хомутов.
У румяного были волы и кони, и он забрал дюжину хомутов, а у высокой солдатки не было ни коня, ни вола, дом ее сгорел.
— Зачем тебе хомуты? — удивлялся румяный.
— А тебе какое дело? — кричала женщина.
— Несправедливая арифметика, — говорил вертлявый дедок, поддерживая спадающие штаны.
— Нету на это нашего указания! — крикнули в толпе.
— Нету и нету! — закричали все.
Румяный ехидно усмехнулся.
— Откуда такой параграф? — кричал взъерошенный дедок.
В это время из-за леса вылетел «мессер». Румяный поднял перст в его сторону: «Вот откуда!»
Сходка, притихшая было под рев «мессера», загалдела с новой силой.
— Вот спросим у учительши! — закричала высокая солдатка, кивнув в сторону калитки, где стояли мы.
— У этой молодицы? — спросил румяный, порываясь двинуться дальше.
— Нет, ты постой, постой! — схватили его бабы за полы городского пальто. — Анна Николаевна нам разъяснит. Скажи, Анна Николаевна, рассуди, правое дело он вершит?
— Прохор Прокофьевич погорячился, — спокойно и мягко сказала Анна Николаевна, словно речь шла о мальчишке-шалуне. — Я уверена, он сейчас сам думает: «Я ведь ограбил народ, и он меня за это убьет».
— Явилась! — прошипел румяный.
— Только тронь! — зловеще сказали из толпы.
— Вот придут наши! — кричала высокая костлявая солдатка.
— Где Степан Бондарчук? Где Яков Макивчук? — с тоской вызывали женщины председателя колхоза и парторга. — Пусть скажут…
Разгневанные бабы со всех сторон подступили к румяному.
— Куркуль!.. Куркулевый корень!..
— Эй, бабы! — вскрикнул румяный, видя у самого лица худые, но сильные кулаки. — Эй, смотрите!
Высокая костлявая солдатка блеснувшими глазами взглянула на меня и подняла кулак на румяного.
— Бей его, бабы!
Румяный только повел рукой, как бы желая схватить воздух, но бабы уже вцепились в него. Он упал на землю, а бабы заработали кулаками, будто месили тесто.
Я вышел вперед, но сзади кто-то крепко ухватил меня за рукав. Это была Анна Николаевна.
— Идите в хату!
Скоро и она пришла. Она остановилась на пороге и внимательно посмотрела на меня, словно впервые видела. Мы встретились глазами и поняли друг друга.
— Теперь жди гостей! — Лицо ее стало хмурым.
— Ну, недолго это продлится, — сказал я.
— Да? — страстно спросила она. — Скоро? — и протянула руки, как бы хотела руками схватить ответ. — А то тут утром проходил один с оторванным хлястиком и говорил: «Все!.. Хана!..» Правда, он шел в другую сторону.
— Так не может долго продолжаться, — сказал я.
— Я тоже так думаю, сердце горит.
— Там я встретил женщину, — сказал я, — везет на себе плуг.
— Как в пещерный век, — задумчиво проговорила учительница.
— Анна Николаевна, а скоро мы будем проходить пещерный век? — спросил из-за перегородки детский голос.
Учительница улыбнулась, но строго сказала:
— Занимайтесь своим делом, дети.
— А уже можно? — спросили сразу два голоса.
— Можно.
— Анна Николаевна! А как пишется «оккупант»? — спросили из-за перегородки.
— Я же тебе вчера, Петя, объясняла: через два «к».
— То вы Леньке Комарову объясняли, а не мне, — обиженно откликнулся мальчишеский голос.
Вслед за тем слышится сопенье и скрип перьев.
— Анна Николаевна! — снова доносится из-за перегородки.
— Ну, что тебе?
— Петя говорит, что «смерть» пишется без мягкого знака.
— «Смерть» пишется с мягким знаком на конце.
— Урок? — сказал я.
— Да, чистописание, — ответила Анна Николаевна.
Не успел я с Люсей, голоногой, до колен забрызганной грязью лихой девчонкой, вызвавшейся проводить меня на шлях, выйти за село, на взгорье, где стояли на ветру лохматые осины, как мы услышали впереди неистовые и какие-то обиженные крики:
— И-о!.. И-о!..
По дороге в гору еле-еле двигался заморенный конь, с усилием вытаскивая из грязи доверху нагруженную немецким снаряжением подводу. Он часто останавливался. Тогда немец в ярко-зеленой шинели соскакивал с подводы, изо всех сил хлестал коня кнутом и кричал: «И-о!» — и гопал ногами. Конь делал еще несколько шагов и снова останавливался.
Чужеземец не унимался. Он стоял по колени в грязи, дико оглядывался и кричал: «И-о! И-о!». Казалось, что он обращается не только к коню, но и к этой бесконечной, ползущей в гору дороге, к грязным, медленно плывущим по заплаканному небу тучам, ко всему этому — чужому, усыпленному в тумане — миру.
Заметив нас, он по-охотничьи свистнул и махнул кнутом.
— Свистит, как собакам, — сказала Люся.
— Сам он собака.
— Ну да, собака, — согласилась Люся, — фашисты — собаки.
Продолжаем идти своей дорогой.
С тех пор как, распрощавшись с Ивушкиным, двинулся на Грайворон, я прошел уже верст сто, но продвинулся на восток мало, так как все время приходилось идти окольными путями. Сначала шел, опираясь на костыль, а потом и так: разошелся.
И лишь только утром, после сна, трудно разогнуть ногу, словно всю ночь ее держат в тисках и придают ей согнутую форму, и я волочу ее по грязи, а потом как-то само собой она незаметно выпрямляется, вдруг я сам замечаю, что хожу прямо, бодро, и однажды даже слышал, как бабы у колодца сказали: «Солдат пошел!»
— Алло! Момент! — закричал зеленый немец. — Я! Я! — тыкал он кнутом в мою сторону: «Не понимаешь, тебя именно мне и надо».
Мы идем не оглядываясь.
— Дядечка, мы глухие, да? — усмехнулась Люся. Русые волосики на ее затылке стоят торчком, как сияние.
— И-о! — завопил немец.
— Кричит! — сказала Люся.
— Ну и пусть себе покричит…
— Ага!..
«Трак-так-так!» — сухо прозвучала за спиной короткая автоматная очередь.
«Фьють! Фьють!» — цокнули пули, подымая фонтанчики грязи.
Позади, на дороге, послышалось чавканье, из тумана, выбрасывая из-под копыт комья грязи, появился на высоком коне кавалерист в черной шинели.
— Флигге! — издали крикнул ему наш немец, жестами показывая, чтобы меня гнал к нему.