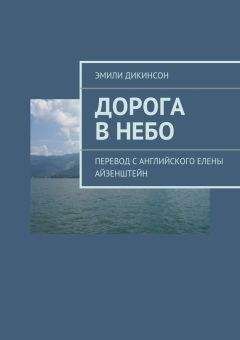— Флигге! — издали крикнул ему наш немец, жестами показывая, чтобы меня гнал к нему.
Флигге наехал на меня конем.
— Иван! — сказал он и махнул автоматом.
Удивительное чувство охватывает тебя: вот только секунду назад ты был свободен, душой сливаясь с этим желтым полем, пахучим ветром, облаками в небе. И вдруг все кончилось… Между тобой и полями, ветром, небом и всей твоей жизнью, всем, что было до сих пор, — грызущий пенные удила, храпящий конь с траурным Флигге.
Я давно заметил, что всегда в мгновения ужасных испытаний человек как бы силой самосохранения раздваивается: боль, муки, ужас остаются у того, другого человека, которого ты будто со стороны видишь не замутненным болью умственным зрением, сохраняя в себе свободную от боли и страха душу для сопротивления этому ужасу. Может, эта отстраненность и помогла мне так сильно и резко запомнить, прямо-таки впитать в себя это ненавистное, длинное желтушное лицо.
Зелеными, как крыжовник, глазами он злобно присматривался к неторопливой моей походке, выражению моего лица, раздражаясь и подогревая себя. Ему так хотелось, чтобы его что-нибудь сильно разозлило.
На подводе сидел хлопец в мешковатой, очевидно снятой с убитого, синей форме советского летчика, с низко опущенной на лоб челкой и, разинув рот, смотрел на меня испуганными глазами.
— Картуз! — вскричал он, словно на голове моей горел картуз.
— Культур! Культур нихт! — проворчал немец и кнутовищем скинул с меня картуз. — Хунд!
— Собака, — перевел хлопец.
— Дрек! — крикнул немец.
— Говно, — лениво вторил хлопец.
Стою без картуза и вглядываюсь в это длинное, желтушное лицо, в зеленую злость этих глаз: «Вот он, фашист!»
А он думал, что я интересуюсь его званием.
— Виц-фельдфебель! Гестапо! — сказал он.
— Виц-фельдфебель, — как эхо, повторил за ним хлопец.
— Махорка? — спросил «виц», подходя вплотную. Казалось, что у него сразу выросла дюжина рук, которые одновременно побывали во всех моих карманах.
Он вынул из моего кармана горсть засушенных березовых листьев: «О! Сигарет! Гавана!» Выпучив глаза, он весело залопотал:
— Ивануфка, Степануфка, Андриефка?..
«Виц», не сводя с меня глаз, задавал какие-то вопросы, сам на них отвечал, а потом визжал, разъяренный этими ответами, и топал ногами.
— Он что — псих? — спросил я хлопца, который грыз семечки.
— А кто его знает, — отвечал тот, лениво выплевывая шелуху.
— Рус! Рус! — кричал «виц», и это доводило его до бешенства.
По дороге, из тумана, с раздирающим душу цыканьем проносились мотоциклетки, скакали одиночные кавалеристы, на ходу перебрасываясь с нашим немцем:
— Алло, Зайденцопф!
Иногда кивали в мою сторону, советуя:
— Зайденцопф, пук-пук!
Чего он хотел от меня, Зайденцопф? Скорее бы ему удалось вывернуть лицо мое наизнанку, чем вызвать льстивую улыбку. В черной рваной рубахе стою перед ним на ветру, под моросящим дождем.
Он долго и внимательно смотрел на меня, как бы решал: стрелять или немного обождать?
Потом отвернулся, вынул из соломы сверток и, как хорошему знакомому, улыбнулся большому куску сала.
Из ранца появился толстый-претолстый складной немецкий ножик. С одной стороны — вилочка, с другой — ложечка, в центре — ножики, штук пять, и среди них — какой-то длинный, острый, разбойничий, неизвестно для чего; а если появится на столе бутылка, то выскочит из складного ножика и штопор; если не поддается замок, есть и отмычка в этом ножике; если и отмычка не поможет, то и кусачки есть, и ножницы, и чуть ли не штопальная игла. Если бы предполагали, что солдат попадет в Китай, то всадили бы, наверное, туда и палочки для риса. Весь план походов и ограблений был уже в миниатюрном, микроскопическом виде представлен в этом солдатском ножике.
— Давно ты с ним? — спросил я хлопца.
— Давно, — ответил он, глядя не на меня, а на сало.
— Откуда?
— Да с самой Коломыи.
— А зачем?
— Харчи дает, — сказал он, вожделенно глядя на разрезаемое немцем сало, и на курносом, тупом его лице впервые появилось выражение осмысленности.
— Удрал бы лучше, — сказал я.
— А я не ваш, — важно заметил он, — я галицийский.
— Папе римскому молишься?
— Ага!
— А кто твой отец?
— Печерыця.
— Вот видишь.
— Что вижу? — зевнул хлопец.
— Холуй ты!
— Поговори! Вот фрицу скажу.
Немец бессмысленно посмотрел на нас.
— Не скажешь.
— А вот скажу.
— Побоишься.
— Кого? Тебя? — спросил хлопец, и глазки его забегали. Но он молчал.
Немец уложил ломоть сала на тоненькую пластинку белого хлеба и, расставив ноги, с пилоткой набекрень, глядя на меня, стал уплетать бутерброд. Печерыця жадно глядел в рот немцу.
— Вот так и глядишь на эту ряшку? — спросил я.
— Ряшка, ряшка! — сказал немец. — Вас ист «ряшка»?
Я развел руками: «Я по-вашему не понимаю».
Немец покрутил пальцем у виска: мол, нет мозгов.
Он медленно, причмокивая, разжевал свой ломоть, собрал с бумажки в ладонь крошки и под растерянный взгляд Печерыци, который уже нацелился на эти крошки, кинул их в рот и тоже медленно, со вкусом разжевал. Потом он запил чем-то из темной пузатой бутылки, икнул и, недоверчиво косясь на Печерыцю, посмотрел бутылку на свет: много ли еще осталось?
Утершись платочком, он вытащил сигарокрутку, щелкнул — и выскочила сигаретка. Видя, что я обратил внимание, он еще раз щелкнул — и выскочила другая сигаретка.
— Техник! — сказал он, пряча вторую сигаретку в портсигар. Он вынул зажигалку — никелированную голую девицу, нажал ей на живот, и из девицы блеснуло пламя. — Баден-Баден! — весело воскликнул он, подбрасывая на ладони никелированную девицу.
Внезапно лицо его помрачнело. Закинув на голову шинель, с автоматом на груди и сигареткою в зубах, он тут же, у подводы, присел на корточки, читая какую-то афишку.
— Грамотный у тебя хозяин, — сказал я.
Печерыця лежал на возу и, разинув рот, смотрел на плывущие низко под серым небом разорванные тучи: как это так непонятно получается — то похоже на собаку, гонящуюся за зайцем, то на стадо коров или на огромный стог сена, то еще на что-то знакомое?
Мимо скакали кавалеристы и на ходу переговаривались с сидящим на корточках Зайденцопфом. «Я!.. Я!..» — кричал он им вдогонку и хохотал.
Погода сразу и бурно меняется. Темнеет. Клубящийся на болоте туман вплотную подходит к дороге. Из белой мглы торчат осины. Ветер срывает с деревьев и кружит, бросая в лицо, бурые листья.
— Культур, культур нихт! — глядя на меня, сердито проговорил Зайденцопф, застегивая штаны. — И-о! — завопил он и махнул автоматом: бери коня под уздцы и тащи в гору.
Большой грустный глаз глядел на меня, подумалось: «Колхозный конь».
Дергая за уздцы, потащил я упирающегося коня, и такое чувство, что и сам в упряжке.
— Рюр дих! — покрикивал Зайденцопф.
— Шевелись! — переводил Печерыця.
— Раш! Раш! — доносилось вместе со свистом кнута.
— Быстрей! Быстрей! — объяснял Печерыця.
Осенняя мгла непрерывно сыпалась с темного неба и падала на поля с неубранными снопами и брошенными жатками, на почерневший бесприютный лес, на дорогу с разбитыми и сожженными машинами в кюветах. На губах холодный соленый привкус осеннего ветра.
Чем яростнее Зайденцопф хлестал кнутом коня, тем все ленивее шел конь и наконец совсем стал.
— И-о! — заревело над самым ухом, и, не разбирая, виц-фельдфебель стал хлестать куда попало по коню и по мне.
Чувствую, как скрипят зубы. Спокойнее! Спокойнее! Слышится топот. Скачут зеленые всадники. Останавливаются. Немец жалуется и на коня, и на меня, и на все на свете.
На лугу в тумане паслись кони.
— Лос! — крикнул он, указывая кнутом в туман: мол, живо беги, поймай коня. И по тому, как он сказал и тут же отвернулся к подводе, видно было, что он бесконечно уверен, что я побегу, поймаю коня и приведу, и все будет в порядке, точно он уже приковал меня к себе.
Я держал в вытянутой руке уздечку, приманивая коня. Конь доверчиво посмотрел в мою сторону, я свистнул, он шарахнулся от меня. Я свистнул и побежал за ним.
Конь уводил меня все дальше и дальше от золотушного немца, от рабства, в родные поля. Скрывшись за кустами, чуть ли не вниз головой бросился в балку, где виднелись маленькие хатки. За спиной выросли крылья, и хотелось кричать на весь свет от счастья, от свободы, от чувства воли.
Только теперь, когда прошло напряжение, я почувствовал острую боль в груди. Словно втолкнули в нее живую птицу, и вот бьется она под ребрами, под мокрыми от крови бинтами и больно клюет длинным острым клювом: «Тюк! Тюк!» Снова заломило колено, и больно ступать на ногу.