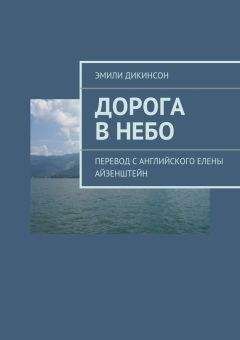Говоришь себе: «Надо идти, идти…» И каждый шаг воспринимается как победа над собой и прибавляет силы.
— И-о!.. И-о!.. — гремело во тьме. В этом плачущем, неистовом крике — страх, отчаяние и ужас перед этой темной чужой ночью, злоба на проклятую судьбу, которая завела в страшный, непонятный, никому не покоряющийся мир.
Ухожу все дальше. Кто-то ласково коснулся моего лица, — это были березовые ветви. Я попал в лес и вздохнул полной грудью.
В последний раз донеслось: «И-о!.. И-о!..» И раскатистое, усиленное ветром эхо отвечало: «Хо! Хо!», будто ночь и поля, не в силах сдержать хохота, дразнили Зайденцопфа.
С той минуты, как я встретил немца, прошло не более часа, но этот час показался вечностью. Как медленно, как тяжело и смутно движется время в рабстве!..
Они появились неожиданно из высоких, дремуче-перепутанных зарослей конопли, оба в военных фуражках без звездочек, с короткими карабинами. Один из них, громадный детина, остался на месте, другой, помельче, направился ко мне.
— Постой-ка, приятель! Закурим!
У него было перевязанное платком какое-то плачущее бабье лицо.
— Откуда?
— А кто вы такой? — спросил я.
— Поцелуйко! — жалобно закричал он тому, который остался в конопле. — Хочет знать, кто я такой!
— А что он за птица такая, что задает вопросы? — откликнулся Поцелуйко, похлопывая палочкой по голенищу.
— Мы с мамой были на окопах, — прикинулся я.
— Мамочку потерял в окопах, — плаксиво засмеялся мой собеседник.
— Все они с окопов! — проворчал Поцелуйко.
— Ладно, скидывай кожанку! — приказал плакса.
— Холодно будет, — сказал я.
— Слышишь, Поцелуйко: говорит, ему холодно будет!
— Да брось ты, Охапкин, с ним цацкаться, дай ему пинка!
Охапкин, как фокусник, стащил с меня кожанку. Он снял с себя драный ватничек и кинул мне в ноги.
— А вы, дяди, кто? Полицаи? — спросил я.
— Мотай, мотай! — крикнул Поцелуйко.
За балкой начиналось большое село. Крайняя хата была разбита, вокруг — большие, еще свежие воронки. Что это — бомбежка?
Стучу в низкое темное окошко:
— Хозяйка!
Никто не отвечает. Толкаю дверь — она открыта. В хате на столе детский гробик. Девочка в венке из белых и розовых бессмертников лежит в гробике, будто спит, казалось крикни: «Галю!» — она откроет глаза. Сидящая на табурете женщина взглянула на меня пустыми, невидящими глазами и снова опустила голову. Я тихо вышел.
Я перешел через улицу и вошел в темную хату, освещенную лишь слабыми отблесками горящего очага. У печи стояла горбатая девочка: подсаживая в печь на ухвате большие черные чугуны, она поднималась на цыпочки.
— Здравствуйте, — сказал я.
Девочка ничего не ответила. Я сел на табурет, и тотчас же с одежды и сапог натекла лужа. Я сидел на табурете, не имея сил ни двинуться, ни сказать слово, — вот только так сидеть на табурете и дышать, прислушиваясь к своему дыханию; и какая-то удивительная, страшная пустота вокруг и в тебе, и только где-то глубоко-глубоко теплится мысль: «Выдержать… идти… Вот скоро — Большая Писаревка, а там Грайворон — и фронт!» Тяжелая дремота, точно клеем, смыкала веки.
— Ходють всякие! — услышал я ворчливый старческий голос.
Я оглянулся. Никого в хате, кроме нас, не было.
— Ты не сердись, девочка, — сказал я.
— Какая я тебе девочка! — вскричала горбунья, и в красном отсвете я увидел маленькое сморщенное лицо старой бабки с плоским, скошенным набок подбородком, точно ей саблей снесли нижнюю половину лица.
— Ходють, обзывают… — проворчала она.
— Не сердись, бабуся, — мягко сказал я.
— Какая я тебе бабуся! — еще громче вскрикнула горбунья и в исступлении кинула на землю ухват.
Темнота, озаряемая бликами огня, огромные кипящие чугуны и эта странная, без возраста, горбунья, с шепотом кидающая что-то в горшки, на мгновение перенесли в сказку о бабе-яге. Я протер глаза.
До сознания наконец дошел тяжелый, дурманящий дух, поразивший меня еще при входе. Это был запах сивухи.
— И куда ходють и зачем ходють?.. — ворчала у печи горбунья.
— Ладно, женщина, — сказал я, подымаясь, — оставайся…
— Сиди уж, — проворчала горбунья, — пришел, так сиди.
Она налила в кружку кипящего молока и принесла мне. И опять странная метаморфоза произошла с ней: вблизи это оказалась не бабка, а еще не пожилая женщина, но невозможно было определить, сколько ей лет: может, двадцать пять, а может, и пятьдесят.
— И-и, какой молоденький! — сказала она, разглядывая меня, и что-то похожее на ласку мелькнуло на этом обиженном судьбою лице.
Я глядел на нее во все глаза.
— Что, невесту ищешь? — спросила она.
— Да нет, ничего. — Я стал, обжигаясь, пить молоко.
— Ги-и-и… — засмеялась она половинкой лица.
Мне стало не по себе.
— Ты из каких, из вояк? — спросила она.
— Окопы рыл, — сказал я.
— Ну, айда на печь!
Я с трудом стащил намокшие, окаменевшие сапоги и полез на теплую печь.
На печи лежал светлоголовый мальчик. Он тотчас же потянулся ко мне, и я почувствовал живую теплоту худенького тельца.
Мальчик вздрогнул.
— У-у, дядь, какой ты студеный!
Я близко от лица увидел большие, неправдоподобно голубые глаза небесного отрока.
— Дядь, ты советский или притворяешься? — спросил мальчик.
— А ты как хочешь? — спросил я.
Мальчик смолчал, но насупился.
— Может, и советский, — сказал я.
— Плохо дело, — оживился мальчик.
— А что?
— Она — ведьма, — прошептал он.
Я улыбнулся.
— Самогонщица она, в тюряге сидела, — деловито докладывал мальчик. — У-у, злая на красных! — он сжал кулачки.
В это время так свирепо хлопнули дверью, что вся хата задребезжала. Мальчик прижался ко мне.
— Идут, — прошептал он.
— Привет, ведьма! — сказал грубый голос.
Я узнал Поцелуйко.
— Здравствуйте, соколики, здравствуйте, красавчики! — ответила горбунья.
Вслед за этим нас осветили фонариком.
— Кто там у тебя? — спросил Поцелуйко.
— Хлопчики, — сказала горбунья.
Мальчик обхватил меня ручонками за шею и крепко прижался.
— Сейчас мучить будут! — зашептал он.
Свет фонарика исчез.
— А это что у тебя, баба, в бидоне? — спросил Поцелуйко.
— Бянзин, — сказала горбунья.
— А самогон? — пискнул Охапкин.
— А нема за так, — зло ответила горбунья.
— Не реви! — сказал Поцелуйко. — Вот тебе барахло.
— Все дырявое, все жженое… — ворчала горбунья.
— Так то ж война! — жалобно пискнул Охапкин.
— Ей давай из ателье, ей давай из салона! — сказал Поцелуйко.
В абсолютно полной, почти священной тишине слышно было, как булькал самогон, как они чокались.
— Слышь, Охапкин, — пьяно сказал Поцелуйко, — чего там опять у вас ералаш?
— Ганса на шляху убили, — ответил Охапкин.
— И все в твоем околотке?
— В моем! — всплакнул Охапкин.
— Эге, не миновать тебе намыленного узла, — сказал Поцелуйко.
Опять в тишине булькал самогон и чокались чашки.
— У-у, баба проклятая, дурмана прибавила! — засопел Поцелуйко. — Ты что дурман прибавляшь? Смотри, на том свете на сковороде зажарят.
Охапкин тоненько засмеялся.
— Ее энкеведе не напугало, а ты чертями пугаешь.
— А у меня гостинец для вас, — сказала вдруг горбунья.
— Какой такой гостинец? — пьяно икнул Поцелуйко.
— Может, он и убил, — сообщила горбунья.
— Кого убил?
— А на шляху того человека, — сказала горбунья.
— Эх ты, баба, то разве человек? То ганс, — сказал Поцелуйко и захохотал.
— Кто убил? — взвизгнул Охапкин. — А ну не выпендривай!
— У Малашки в клуне командир, — зашептала горбунья.
— А почему ты, баба-яга, думаешь, что это командир? — спросил Поцелуйко.
— У-у, самый главный, — ответствовала горбунья, — уж я знаю! Шишка, всем шишкам шишка!
Горбунья долго напутствовала своих гостей, как сподручнее подойти ко двору Малашки.
Скоро они ушли.
— Ух ты, Малашка! Ну ты, Малашка, вот тебе, Малашка, — бормотала горбунья.
Я слез с печи. За мною спрыгнул и мальчик.
— Давай тащи бидон!
Он с усилием поднял бидон с бензином и деловито спросил:
— Что делать?
— Хлещи во все углы.
Мальчик по-хозяйски аккуратно облил полати, скамьи, плеснул и на стол и на подоконники. Горбунья дикими глазами следила за его движениями и молчала.
— Сюда надо? — спросил он, показывая на корыто с очищенным картофелем для самогона.
— Валяй!
— А-а-а! — закричала горбунья.