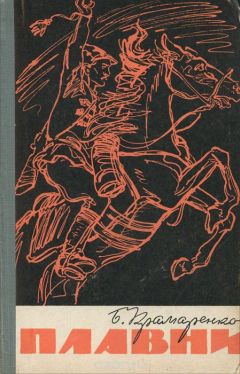— Вот мы и встретились, Волобуй.
— Довел господь, Андрей Григорьевич…
— Аль не рад?
— Какая уж радость… — вздохнул Волобуй.
— Сидай, гостем будешь.
— И то сяду. Ноги отекать стали, старею, Андрей
Григорьевич.
— Да… Подался. Фигура не та и борода не та. За девчатами, видно, уж не бегаешь?
— До того ли теперь…
— Ну что ж, рассказывай, как живешь, как хутор?
— Живем, слава богу.
— За что же арестовали?
— Тебе виднее, ты теперь вроде атамана.
— А ты не знаешь?
— Не знаю…
— И ничем Советской власти не шкодил?
— Старик я уже…
— Что ж, придется мне напомнить тебе кое о чем… Ты полковника Гриня знаешь?
— Каневской он…
— Договор с ним заключал?
— Нет…
— А скот ему в плавни отправлял?
— Ив думках не було!
Андрей достал из ящика стола серую папку, развернул и перелистал несколько листков.
— В марте одиннадцать коров–немок и сорок овец племенных породы рамбулье да одиннадцать телят племенных зарезал, а туши в плавни… к полковнику Гриню. В апреле четыре коровы–немки, и тридцать семь племенных овец, да девять телят… тоже в плавни. В мае туда же семь коров, два бугая племенных и сорок овец рамбулье… То же в июне.
— Моя скотина, никто мне не указ!..
— Мало того, что ты бандитов годуешь, ты еще, подлюга, племенной скот переводишь!
Волобуй вскочил. Спокойствие покинуло его, он впился пальцами в край стола и забрызгал слюной.
— Ты мне ее наживал, скотину? Барашков племенных тебе жалко, а знаешь ли, сколько труда положил, грошей скольких стоило, пока я их развел? Знаешь? Во всем округе таких овец нет, и не будет.
— Садись. Ну! Волобуй нехотя сел.
— Хлеб, сколько с тебя причитается, сдал?
— Нету у меня хлеба, скотину годувать нечем… Потому и режу.
— Это в мае да в июне нечем? Значит, для Красной Армии хлеба нет, а для бандитов есть?.. Сколько подвод в плавни отправил?
— Не отправлял я им хлеба.
— Так… — и Андрей снова заглянул в бумаги. — В апреле пять подвод муки, в мае три, в июне четыре. А говоришь, хлеба нет, скот годувать нечем.
Волобуй молчал.
— Говори, отправлял или нет?
— Ежели у тебя там записано, зачем пытаешь?
— Значит, отправлял? Деньги за скот и муку от полковника Гриня или генерала Алгина получал?
— Не брал я с них денег… для души делал. Жена умерла… сам старый уже… Я наживал… я и проживаю.
— И ничего тебе полковник Гринь за твое добро не обещал?
— Нет.
— Вспомни.
— Нечего мне вспоминать.
— А землю казаков, которые в красных гарнизонах служат и в Красной Армии, не обещал?
— Не насиловал его, сам предложил.
— Хорошо… Ну, больше мне с тобой не о чем разговаривать.
— Что ж со мной робить будешь?
— А это как комиссия решит.
— Ты ж председатель.
— Моя думка — расстрелять.
— Значит, пускай хутор гибнет?
— Без тебя целей будет, — Андрей позвонил. — Уберите арестованного.
Волобуя увели. Андрей закрыл папку и спрятал ее в стол. В комнату заглянул пожилой высокий человек в белой рубахе, смазанных сапогах и с черным картузом в руке.
— Звал, Андрей Григорьевич? Андрей поднялся и пошел к двери.
— Заходи, заходи, Прокофьевич. — И когда тот вошел в кабинет, взял его под руку и повел к дивану. — Как доехал, Прокофьевич? Да сидай, ты у меня сегодня — самый дорогой гость.
— Спасибо, Андрей Григорьевич, лихо доехал. Твой хлопец так коней гнал, что аж печонки наружу просились. Чтоб дорогу сократить, так он по целине гнал.
— Давно у дочки живешь?
— Второй год пошел, да какое ж это житье? Из чужих рук смотришь! Зятек–то у меня казак. Не так зробил, не так ступнул, ко всему придирки делает. Эх, Андрей Григорьевич, горько на старости лет жить так–то!
— Ну, какой ты старик, Прокофьевич. Почти и не седой еще, в руки ежели подкову дать, враз сломаешь, а?
— Нет, Андрей Григорьевич, не тот уж я. А было время, груженую подводу на спине приподымал. Помнишь, твою фуру раз из грязи вытащил?
— Помню, а как же… Значит, недоволен своей жизнью, Прокофьевич? Может, по стаду скучаешь, а?
— Оно, конечно, Андрей Григорьевич, без настоящего дела скучно. Сам знаешь, пятнадцать лет чабановал да шесть лет у Волобуя в старших пастухах ходил. Еще при батьке его поступал. Да кто ему и овец–то французских развел, как не я? Ведь ночей не спал, как с малыми детьми, с ними возился.
__ Порезал их Волобуй…
__ Как порезал? Да ты что? Не шутишь?
— Какие уж тут шутки! Половину племенного стада вырезал.
Андрей видел, что тяжело было старому пастуху услышать о гибели его любимого стада. Он прошелся по комнате, потом сел за стол и стал что–то писать, изредка поглядывая на Прокофьевича. Тот сидел на диване, низко опустив голову, и не понять было, то ли грустит старый чабан, то ли думает какую думу. Наконец он поднялся и подошел к столу.
— Вот что, Андрей Григорьевич. Может, не поймешь ты меня, да нет, должен понять. Знаю, не до этого тебе зараз, да дело такое… Откладывать нельзя.
— Говори, Прокофьевич, затем и звал, чтоб совет твой послушать.
— Знаешь ли, что за овцы у Волобуя?
— Бачил.
— Нет таких больше на всей Кубани, да, может, и подале сразу не сыщешь.
— Знаю.
— Вот ты Волобуя посадил, это гарно, хутор–то брошенный, за скотиной ухаживать треба?
— Обязательно, Прокофьевич.
— А шерсть тоже нужна? Вот воевать кончите, кинетесь, а племенных овечек–то и нема… вырезали.
— Что ж ты советуешь?
— Хутор овечий организовать треба, племенной скот сохранить.
Андрей, пряча в глазах улыбку, низко склонив голову, продолжал что–то писать. Но вот он отложил ручку, пристально посмотрел на Прокофьевича и встал. В руках у него был лист бумаги со штампом и печатью.
— Именем Советской власти назначаю тебя, Прокофьевич, управляющим Первым государственным хутором племенного скота. Подбери себе помощников и хозяинуй, а чтоб бандиты вас там не вырезали, дам приказ Остапу Капусте, чтоб выслал для охраны взвод хлопцев да пулеметную тачанку.
Прокофьевич вышел из кабинета председателя ревкома, сияя от радости.
— Управляющий… Чудно… Ну и Андрей! Наговорит — «хозяинуй»! — Заметив любопытные взгляды писарей, он гордо выпрямился.
На исходе третьего дня в станицу вернулись конные сотни гарнизона. Без песен, с хмурыми лицами, ехали бойцы по станичным улицам. У многих из них головы были завязаны белыми тряпками со следами ржаво–кровавых пятен.
Привели сотни Павел Бабич и Константин Бурмин.
Андрей был в ревкоме, когда дежурный доложил ему по телефону о прибытии гарнизонных сотен. Андрей был удивлен тем, что к нему не зашел ни комиссар, ни Бабич. Он надел шашку и, не дожидаясь, пока ему подадут лошадь, пошел к гарнизону.
Вот и зеленые ворота гарнизона. Часовой при виде Андрея становится во фронт и прижимает к плечу жало штыка. Андрей толкает ногой калитку и входит во двор.
Сотни уже развели коней по взводным конюшням и собрались на обширном дворе гарнизона для общей переклички.
Четыре цветных шеренги. Две синие, в красноверхих черных папахах и алых башлыках, и две серые, в белых папахах с голубыми верхами и голубых башлыках. На правом фланге — развернутое атласное знамя гарнизона. Бабич стоит лицом к шеренгам с гарнизонным журналом в руках:
— Кравцов Иван!
— Пал за революцию! — слышит Андрей громкий голос из синих рядов и затем команду Бабича:
— Гарни–изо–о-он! Смирно–о–о! Глаза налево! Слушай! На караул!
Бабич подходит с рапортом. У него тоже голова обмотана белой тряпкой, поверх тряпки надета папаха.
— Товарищ председатель Военно–революционного комитета! Конные сотни гарнизона прибыли после боевых операций. За время похода дважды были атакованы конницей Гая и три раза сами переходили в атаку. Во время боев сотни имеют семнадцать тяжелораненых, сорок два легко и девять убитых. — И, помолчав, добавил: — Во время нашей атаки убиты комиссар и командир второй сотни.
Андрей некоторое время' молчит, потом глухо спрашивает:
— Где убитые?
Бабич молча указывает на конец двора. Там, в тени забора, под охраной двух часовых, лежат на попонах трупы бойцов.
Андрей здоровается с замершими шеренгами и направляется к мертвым.
Лицо комиссара словно у сонного, губы плотно сжаты. На гимнастерке — несколько темных пятен.
— Под пулемет попал! — тихо проговорил Андрей, словно объясняя кому–то, хотя, кроме него и часовых, никого возле трупов не было. Он заметил полуоткрытый глаз комиссара, опустился на колено, закрыл глаз и, откинув со лба комиссара прядку волос, медленно поднялся.