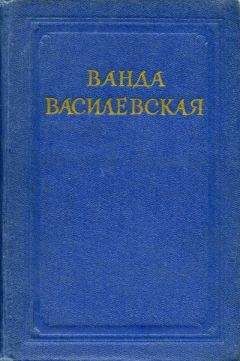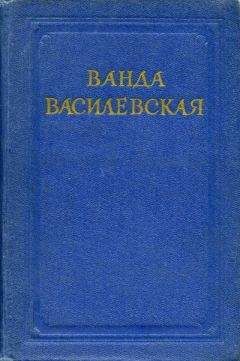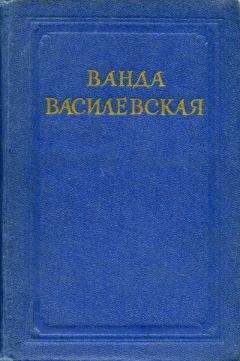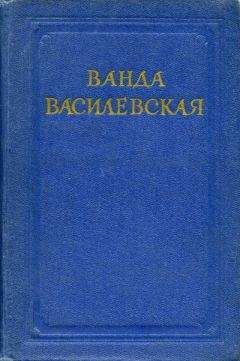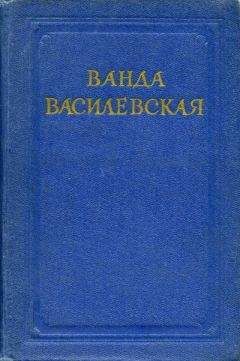Нет, не надо об этом думать! Дурные мысли накликают несчастье. Надо изо всех сил, изо всех сил думать, что малышу лучше. Что завтра ему будет еще лучше. А когда они приедут на юг, куда их везут, малыш уже снова будет ходить. Ядвига поведет его за ручку, и он засмеется от радости, увидев солнце и цветы. Ведь там, наверно, еще цветет что-нибудь, на этом юге; говорят, там настоящей зимы и не бывает… Маленькие ножки трудолюбиво, старательно затопочут, путаясь в мягкой траве…
Но, вопреки всем усилиям воли, к ней возвращался все тот же страх. Страх, что это именно кара. Мысль упорно стучалась в мозг, неотвязная, назойливая. «Но ведь так можно сойти с ума, — мысленно останавливала себя Ядвига. — Все одно и то же, одно и то же. А может, я и вправду помешалась?»
Вдруг она вздрогнула, почувствовав на плече осторожное прикосновение чьей-то руки.
— Выпейте чаю, — сказал тихий голос по-русски, и Ядвига увидела перед собой эмалированную кружку и ломоть темного хлеба. Проводница смотрела на нее добрыми, грустными глазами.
— Выпейте, выпейте, и поесть надо, я же вижу, что вы ничего не едите, а вам нужны силы.
Она присела на корточки возле Ядвиги и сочувственно рассматривала желтое личико ребенка.
— Что доктор-то говорит?
— Я не была у доктора, — со стыдом шепнула Ядвига. — В посольстве сказали, что в поезде есть доктор.
Проводница, уже немолодая женщина, пожала плечами.
— Какой тут доктор… Надо было в Куйбышеве пойти в поликлинику.
Правда! Только тут Ядвига с отчаянием вспомнила, что ведь здесь же повсюду есть поликлиники. Можно было просто-напросто разыскать одну из них, войти туда, показать ребенка, узнать, что с ним. И этого она не сделала. Не сделала, потому что ей казалось, что с того момента, как ее фамилию внесли в список едущих на юг, о ней должны заботиться не здешние, а польское посольство и что советская поликлиника, где она раньше лечила ребенка, теперь для нее недоступна.
— Спит, все спит, — шепнула она, отвечая на жалостливый взгляд проводницы. Жесткая загорелая рука полным материнской нежности движением отстранила от щеки ребенка край шерстяного платка, в который он был завернут.
— Если вам что понадобится, я на тормозной площадке буду. Да я и сама еще загляну к вам, — сказала проводница, осторожно ступая между грудами вещей и спящими вповалку людьми.
— Везет же некоторым! И из посольства записочки получают, и большевики их подкармливают, — ядовито бросил, ни к кому не обращаясь, верзила с рваным козырьком. — Видели эту кондукторшу? Далеко мы с такими уедем! Взяли бабу, ей бы навоз убирать, поставили к тормозу…
— У них всюду бабы. Еще полгода не прошло, как война началась, а уж мужчин не хватает, всюду бабы… А еще вздумали с немцами связываться!
— Мужчины, видно, на фронте! — резко вмешалась госпожа Роек.
— Э, сударыня, какой там фронт… Вот-вот все к чертям полетит…
У печки, в углу, то и дело завязывались ссоры.
— Куда вы лезете? Опять со своей кастрюлькой? Вы же только что жрали!
— У меня пеллагра, мне надо питаться.
— Ну да! Этакая толстая морда — и пеллагра! У всех пеллагра, да не все жрут, как свиньи…
— Что же, если кто гол как сокол, так и другие должны голодные сидеть?
— А воняет эта колбаса, как зараза… Не люди, а скоты какие-то, этакую гниль жрать!
— Прошу не ругаться! Что за выраженья?
— А это еще что? Еще и в угли чего-то набросали?
— Не трогайте, это моя картошка! — завопил господин с пеллагрой.
— Еще и здесь! Треснете от этой жратвы.
— Это уж моя забота, не ваша. Тресну, так за свои деньги.
— И откуда они только набрали всего? — удивлялся кто-то сидящий под окном.
— Не знаете откуда? В Куйбышеве на путях вагон с продуктами разбился, вот и натащили, кто что мог.
— Что вы брешете, милостивый государь? Какой еще вагон?
— Ишь, воров из людей делает!
— Раз плохо лежит, только дурак не возьмет, — сплюнул сквозь зубы молодой человек в рваной фуражке.
— Куда вы плюете? Чего вы плюетесь? Чуть ребенка не оплевал! — вскрикнула мамаша капризной Зоси. — Отодвинься, Зосенька, отодвинься, золотко. Такие невоспитанные люди, такое хамство кругом, Не плачь, не плачь, мое солнышко, мамочка тебя защитит, мамочка тебя не даст в обиду…
— Да что вы так причитаете над своей девчонкой? Никто ей ничего не сделал, а она орет…
— Я хочу конфетку, — использовала положение Зося.
— На, на, милочка, на конфетку, только не плачь, мамино золотко, мамино солнышко!
Печка была раскалена докрасна, из нее вырывался дым и чад, но сквозь щели старого вагона непрерывно несло холодом. Запах пригорелого жира назойливо лез в ноздри.
— Сударыня, — вдруг услышала Ядвига, — мама спрашивает, не удобнее ли будет маленькому на подушке?
Ядвига подняла на паренька удивленные глаза.
— У нас еще есть, мама набрала этого барахла столько, что…
— Возьмите, ребенку будет удобнее, — крикнула госпожа Роек, расположившаяся на узлах в другом конце вагона.
— Благодарю вас.
И правда, так малышу будет удобнее. Она положила на подушку неподвижное, вытянувшееся тельце. Попыталась поправить головку, но ребенок словно одеревенел — шея не гнулась, голова была упорно закинута назад. Что, если?.. Но нет, маленькие губы прерывисто, трудно шевелились, с усилием втягивая спертый воздух теплушки.
Ночью ребенок шевельнулся. Ядвига склонилась над ним. Значит, ему лучше, — прошла по крайней мере эта ужасная неподвижность.
Нет, лучше ему не было. Короткие мучительные судороги сгибали маленькое тело. Через минуту они прекратились. Но несколько мгновений спустя словно дрожь пробежала по всем членам руки судорожно сжались, судорога свела маленькие ножки и больше уже не отпускала их.
Под утро поезд, скрежеща тормозами, остановился на какой-то станции. За окном в сером тумане лились струи скатывающегося с крыши дождя. Двери раздвинули, несмотря на протесты некоторых пассажиров.
— Что вы, задохнуться хотите? Надо же впустить хоть немного воздуха в этот хлев.
— Глядите-ка, что это за поезд?
Прямо напротив, на соседнем пути, стояли вагоны.
— Раненые, — тихо сказал Марцысь, опираясь о косяк открытых дверей. В теплушке примолкли.
Вагоны были пассажирские. Сквозь окна виднелись подвесные койки.
— Тяжелораненые, — шепнул кто-то.
— Вот тебе и на, — буркнул верзила в рваной кепке. Он хотел сказать еще что-то, но воздержался.
Выскочившая из вагона санитарка побежала к станции. И вдруг в наступившей тишине, когда перестали грохотать колеса и затихли разговоры, где-то вблизи послышались неожиданные звуки:
О Танголита, одну лишь ночь…
— Что это?
— Патефон.
— Какой тут патефон? Откуда ему взяться?
— Боже, какая старая пластинка. Сколько же лет назад это было модно?
— Начальство развлекается.
— Какое начальство?
— Да наше, какое еще? Господин поручик Светликовский, комендант эшелона.
— Танцуют, что ли?
— Еще как! Доски ломятся!
— Весело едет господин начальник!
— А что ему? Набрал барышень, жратва есть, выпивка есть, патефон тоже, какого еще рожна ему надо?
— Как им не стыдно! Тут раненые, а они… — сурово сказала госпожа Роек.
— Что это, наши раненые, что ли? — вмешался верзила в рваной фуражке. — Уж кто-кто, а мы-то большевиков жалеть не станем.
— Скотина, — спокойно сказал пожилой человек в поношенном ватнике.
— Вы это кому? Кто скотина? — выпрямился верзила.
— Может, и вы, — все так же спокойно ответил тот. Молодой человек рванулся было к нему, но, взглянув в его глаза, отступил, что-то бормоча про себя.
Человек в ватнике немного подождал, потом спокойно вышел из вагона.
Женщина с изможденным серым лицом, прикорнувшая в углу, закутавшись в теплую шаль, шумно вздохнула:
— Какая разношерстная публика в этом эшелоне… — Это было сказано с явным намереньем завязать знакомство с молодым человеком в рваной фуражке.
Молодой человек в рваной фуражке немедленно откликнулся на это сочувствие:
— Да что ж, брали всякого, кто хотел… Вот и набился всякий сброд… Простите, с кем имею честь?
— Жулавская. Полковница.
— Малевский. Очень приятно.
— Большевиков жалеют. А взять меня, например?.. О своих небось никто не позаботится. Набили в теплушку, как сельдей в бочку, а в вагоне коменданта так свободно, что даже танцуют…
— Что ж, в конце концов потанцевать не грех… Было бы с кем.
Полковница пожала плечами.
— Не знаю, время ли и место сейчас для танцев. Впрочем, как кто хочет. Ну, вот они и утихли.
В вагон вернулся человек в ватнике.