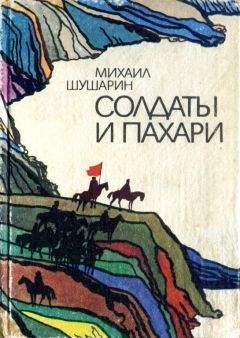— Сегодня работаешь — так еще и сыт, — добавлял Тереха. — А завтра на сухари высушат. Это же паразиты!
— Надо таким сдачи давать.
— А мы разве не пробовали? В прошлом году одному приказчику я немного глотку пощупал… К уряднику попал, дома выволочку получил… Вот те и дал сдачи.
— Чудные вы, ей-богу! Разве такими способами борются?
— Верно судите, Александра Павловна, — поддерживал учительницу Макар. — Тереша, он только бы глотки рвал… Так ничего не выйдет. В одиночку на волков не ходят. Облавой надо. Власть — она и есть власть: в дугу согнет!
— Будешь совсем покорным — ярмо накинут! — горячился Тереха.
— Посмотри сюда! — встала учительница. — Вот лампа горит, видишь?
— Не слепой.
— Встану я в сторонку, ну вот сюда, и буду дуть на лампу, думаешь, потушу?
— Не потушишь.
— А давайте на это место встанем все вместе и дунем разом. Сразу потухнет. Мир, Тереша, только вздохнет — и ураган подымется. И правители полетят, и богачи, и помещики! Разом надо! Понятно?
Вспыхивало Марфушкино лицо, заострялся носик. Макар по привычке ворошил пятерней рыжие волосы. Тереха слушал, широко распахнув глаза, удивляясь и восхищаясь.
Когда ночью шли из школы, Марфушка боязливо говорила:
— Как она про царя-то!
— Что как?
— Разве про царя-батюшку так можно?
— А что, нельзя, по-твоему? — отвечал Тереха. — На кой ляд он сдался, царь, если только о богатых и думает!
9
Не спалось волостному писарю Сысою Ильичу. Повернется на правый бок — никого нет рядом, повернется на левый — тоже. Мучили его обе пагубы: и душевная, и телесная. Стояла перед глазами румяная Марфушка. Виделся жаркий, голубой день. Вот забрела она в озеро, наклонилась к воде, забелели тугие икры. Оглянулась стыдливо, одернула юбчонку, засмеялась. Прошла мимо бестия — огнем обожгла! И бедра крутые, и косы, и глаза — все блазнится Сысою.
Зачастил в школу, с учительницей важные разговоры разводит. На Марфушку масляный глаз косит.
— Если нужда какая, Александра Павловна, ко мне адресуйтесь. Я все улегулирую!
— Спасибо. Пока все хорошо.
— Ну и слава богу. А какова сторожиха?
— Добрая. Работящая.
— Сам подбирал. Знаю.
Писарь похлапывал Марфушку по плечу, пытался обнять.
— Так ведь? — спрашивал, расплываясь в улыбке.
— Да ну вас, Сысой Ильич! Не шутите!
— В жизни не люблю шутить, Марфушенька, для тебя стараюсь!
Незадолго до страды, вечером пришел в школу посыльный из волости, Терехин одногодок и дружок Федотка Потапов.
— Айда, Марфушка! Сысой вызывает чегой-то!
Марфуша накинула платок, пошла вслед за Федоткой. Было душно. Солнышко словно зацепилось за церковные купола и остановилось. Звоном звенела за околицею степь. Когда пришли в контору, Федотка, сдернув картуз, вытер подолом рубахи потное лицо, боком пролез в писареву комнату. Девушка осталась в коридоре. Прислушалась. Из-за стены, отгородившей писарев кабинет от чижовки, куда сажали пьяниц, воров и бродяг, слышались стоны и вздохи.
У Марфушки зашлось сердце. «Неужто мачеха правду выболтала! Господи! Не приведи ты к этому, господи!» — молилась. По-своему, по-девичьи, разговаривала с богом. Две горячие светлые горошины ползли по щекам.
Наконец появился Федотка, сказал:
— Заходи.
Писарь важно сидел за столом, углубившись в бумаги. За правым ухом — карандаш, за левым — папироска. Остатки волос прилизаны, свернуты в замысловатую загогулину: спрятал лысину, молодится. Стукнула в дальнем конце коридора входная дверь: это Федотка ушел в караулку. Хозяин оторвался от бумаг, усадил Марфушку на широкую, затертую до блеска мужицкими штанами, деревянную софу. Глаз его в сгущающихся сумерках казался черным.
— Ну, Марфушенька, чего сегодня во сне видела?
— Ничего, Сысой Ильич. По какому делу вызывали?
— Дело у меня к тебе важное. Только тебя да меня касаемое.
Он подсел к Марфуше. Пухлая нерабочая рука его будто невзначай прикоснулась к теплому колену. Девушка не двинулась с места. Это взбудоражило писаря. Он на цыпочках подошел к двери, замкнул ее на кованый железный крючок.
— Не трогай меня, проклятущий! — Марфуша, как кошка, вспрыгнула на стол, со стола на подоконник.
— Постой, Марфуша!
А она — в открытую створку. Лишь бумажки, лежавшие на столе, запорхали следом да сиреневый куст под окном покивал немного ветками и замер.
На другой день кто-то нароком заронил горящую спичку на пашне Ивана Ивановича Оторви Головы. Две десятины пшеницы, весь посев, выгорели дотла. Сгорело и соседнее поле, Терехиного отца, Ефима Алексеевича. Терешка, находившийся при стаде, первым заметил пал. Хлестал его березовыми прутиками, топтал. Весь обгорел, а потом уж побежал в деревню звать на помощь. Пригнали мужики к полям и руками развели: поздно.
В потемках к убитому горем Оторви Голове приехал писарь.
— Не бедуй, — сказал. — Мир поможет. С миром беда — не убыток. Пригоняй ко мне подводу, бери хлеба сколько надо, сочтемся.
Закрутила, заколобродила после пожара непогодь. Дождь не дождь, снег не снег. Каша какая-то, ненастье. Ни жать, ни молотить, ни сенокосничать. Увез в эти дни Иван Иванович из сутягинских кладовых два воза чистой пшенички. Без копейки отдал ему зерно писарь: «Кто в беде не бывает! Как не помочь!» Понимал Иван Иванович, что добровольно залезает в писарев капкан, да куда податься-то? Некуда.
10
Только через неделю после Семена-летопроводца, первого сентября, закончили в тот год родниковцы страду. Начали класть клади. Пошла на гумнах молотьба. Поплыли в чистом покойном воздухе белые паутинки-пленницы — запоздалые признаки ядреного бабьего лета. В воскресенье утром Иван Иванович выгнал Пеструху в стадо, прибрал на дворе, пощипал горевшими руками бороду и, усевшись на сосновую колодину под крышей, вынул кисет. Яркое проглянуло солнышко. Ворона с вырванными на хвосте перьями шлепнулась на прясло, закаркала. Оторви Голова взял было палку, чтобы прогнать проклятую вещунью, но звякнула калитка. В избу шли двое — мужик и баба. Как кипятком ополоснуло бедного Ивана Ивановича появление этих гостей. Он давно знал, что соседский парень Терешка сохнет по его любимой доченьке. Знал, что лучшего жениха нечего и ждать. Вот-вот зашлют Самарины сватов. Но полошила мысль о писаре. Неспроста наведывался он в дом, хлеба дал взаймы — тоже неспроста. И Секлетинья, жена Ивана, не раз уж говорила, что писарь набивается в женихи. Оторви Голова в этих случаях хулил на чем свет стоит и Секлетинью, и писаря.
— Креста на нем нет, что ли, на старом упырке. Он ведь и меня-то старше года на три, а Марфушку за него?!
— Не лайся, отец! Счастье девке выпадает, а ты лаешься!
— Счастье? Выдра ты мокрохвостая! Не болит у тебя сердце об дитенке, чужая она тебе! Сплавить рада!
— Гляди сам как.
— Чего гляди, чего гляди? — взрывался еще пуще Иван Иванович. — Замолчи!
А на душе кровянило: «Посватает — не откажешь. Заморит с голоду!»
Сейчас, когда увидел, что под матицей с полотенцем через плечо стоит родниковский псаломщик, а рядом, словно сытая кошка, щурится жена старшины Бурлатова, Татьяна Львовна, считавшаяся лучшей свахой во всей волости, охнул. Не Терехины сваты, писаревы. Чтоб им сдохнуть!
— Доброго здоровьица, Иван Иванович, Секлетинья Петровна! Низко кланяемся! — запела сваха.
— Проходите, гостеньки! Не поморгуйте! — торопливо подала табуретки Секлетинья.
Минуту неловко помолчали. Заржал привязанный у калитки рысак.
— От Сысоя Ильича мы, — сказал псаломщик. — Вдовый он и здоровый. Две головешки в поле горят, а одна и в печи гаснет!
— Князю — княгиня, боярину — Марина, да и Сысою Ильичу нужна своя Катерина. Марфу Ивановну приглядел, в пояс кланяться велел!
— Рановато ей.
— Восемнадцатый годок — в голове-то холодок. Не худой жених сватается. С достатком.
— Ах ты господи, — побелел Иван Иванович. — Не с богатством жить-то!
— Хозяйкой в дом придет, не гостьей!
— Не ровня она ему.
— Ничего! Оботрется, обмелется — мука будет!
— Жена не сапог — с ноги не скинешь!
— А добра-то вам мало ли делал?
— И средствов на свадьбу не пожалеет! И долги не помянет!
Иван Иванович молчал. Синяя жилка на виске дергалась все сильнее.
— Дак как же, Иван Иванович?
— Ох, и не знаю как!
— Стало быть, согласен?
…Пришлось Оторви Голове выпить за счастье Марфушки объемистую чарку крепкой, на совесть прокупорошенной водки. Поневоле, да пришлось. Знал Иван: не согласишься — обует писарь из сапог в лапти. А когда сваты укатили, стукнул он кулаком по столешнице, расплескал вино, отрывисто, по-собачьи завыл.
— Что за жисть, в душу, в креста мать, господи!