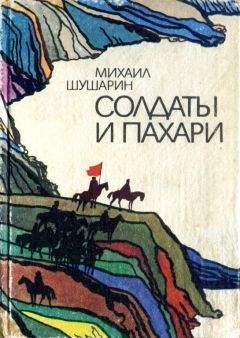— Что за жисть, в душу, в креста мать, господи!
В писаревой доме в это время уже шел пир-ряд. Застолье веселое: и сват со свахой, и старшина, и урядник, и поп.
— Ломался еще?
— Не шибко. Испугался он.
— Ну, господи благослови!
Звякали гранеными, опрокидывали один за другим, закусывали обильно полуостывшими пельменями с горчицей и перцем, телятиной с хреном и отборными твердыми рыжиками в сметане. Запивали излаженным на смородине квасом.
11
Такое иногда спрашивали школьники, что Саня едва сдерживала смех. «Коли земля круглая, так пошто без лошади ездить нельзя?» Часто вместо ответов давала книжки: «Прочтите — узнаете. Только берегите, не теряйте!» Теплом загорались синие Макаркины глаза в такие минуты. Он не расставался с книгой. Пойдет ли лошадей поить рано утром, убирает ли навоз в пригонах, ходит ли за пермянкой-сохой, книга всегда с ним, под зипунчиком, притянута опояской.
— Чудной какой-то, или придурковатый, или нарочно придуривается, — говорили мужики. — Ему бы работу тяжелую воротить, а он книжки читает.
— Ты, поселенская морда, не лодырничай, а то я тебя попру отседова к едрене-фене, гра-мо-тей! — рычал, словно зверь, Сысой Ильич. — И чтобы того… не было этого.
— Ничего этого и нету. И ни того, и ни этого.
Вечерами он, дав коням овса, прибавив сена, надевал старый чапан, постоянно висевший в конюховке, задворками пробирался к школе. Всю жизнь встречавший льдинки в глазах людей, он потянулся к учительнице, согретый ее вниманием.
Легко давалась грамота Терехе. Он схватывал все на лету и очень скоро наторел в письме и чтении. Хуже дело шло у Марфушки. Никак не могла она научиться складывать слоги. Нараспев, по-детски, читала букварь.
— Мы-я-сы-о, — называла буквы.
— Что вышло? — спрашивала Саня.
— Не знаю, — вздыхала Марфуша.
— Прочти еще раз.
— Мы-я-сы-о.
— Ну.
Хмурила лоб учительница. Затаив смех, глядели на девчонку парни. А у нее кривился от обиды рот, катилась непрошеная слезинка.
— Ну чо вы шары-то на меня уставили, — чуть не рыдая, говорила она. — Ну, мясо, мясо, мясо.
— Хорошо, — откидывалась на спинку стула Александра Павловна. — Правильно. Только ты не отчаивайся. Не все ведь быстро освоишь. Придется помаяться. Учеба никому легко не дается. Я вот, как и ты, тоже долго не могла научиться читать по слогам! А потом все стало на свое место.
— Она тоже одолеет. Она же упрямая, — подбадривал любимую Тереха.
Никто не заговаривал о Марфушкиной беде, не задевал писарева сватовства. Не хотели теребить наболевшее: и так убивается.
Сох Тереха. Слез он не знал и не ведал и притушить горе ему было печем. Налегал на работу, читал. Бродил ночами, как лунатик, возле писарева подворья. Что-то замышлял.
12
За озером, около кладбища, на Сивухином мысу, березовый подлесок. В середине его елань, густо охваченная спелым боярышником. Тут всегда тихо. Только опавшие листья шепчутся между собой, да волны у берега денно и нощно трамбуют синий песок. Запахи увядшего копытеня, сурепки и богородской травы сливаются воедино.
Страхи-небывальщины ходили про Сивухин мыс. Нечистое место, правда. Кто бы ни пошел туда — заблудится непременно, на лошади поедешь — то гуж порвется, то супонь развяжется, то колесо у телеги спадет. Многие крестились-божились, что встречались там с самим сатаной в образе по-человечески улыбающейся кобылы Сивухи, которую пристрелили за то, что была она разносчицей худой болезни — сибирки. Закопана была Сивуха на мысу. И вот встает по ночам с тех пор и пугает людей, окаянная.
— Пойдем, Александра Павловна, боярку собирать, — пригласила учительницу Марфуша.
— А куда пойдем?
— На Сивухин мыс. Я бы одна сходила, да боюсь.
— Ну что ж, пойдем.
Полянка была поистине сказочной. Она привораживала красками и покоем. Ветер расшибался о березняк, преграждавший путь к елани, и на елани острая стояла тишина.
— Ой, Саня, гляди, ягод-то, ягод-то! — кричала Марфуша, и оттуда, из подлеска, вторила ей еще одна девушка:
— Ягод-то, ягод…
Они набрали полные лукошки, решили отдохнуть. Учительница прилегла на мягкую, сухую траву. Прислушиваясь к ветру, гулявшему па озере, спросила:
— Марфуша, а ты сильно любишь его?
— Кого? Терентия?
— Да.
— Одной тебе скажу: все сердце выболело о нем. Шибко люблю, Саня. Никого мне не надо, кроме Тереши… Вчера сон видела, будто падаю с неба на Родники, а он стоит и руки тянет ко мне, и слезами обливается. А я не знаю, к кому идти: к нему, али домой, али к писарю.
— Я бы к Терентию пошла, будь на твоем месте.
— Дак и я — тоже. Да жизнь-то не по-моему кроится. Горемычная я, видно, уж такая. Ну куда кинуться? С Терешей уйти — сгубит писарь отца и нас обоих съест… А к писарю… Это хоть сейчас моток на шею.
— И как ты все-таки решила?
Марфуша сжала кулак, погрозила Родникам.
— Я принесу вам приданое! Я вам устрою!
Тянулись над головами белые громады облаков. Рвался на поляну ветер.
— А ты, Саня? Как ты жить думаешь?
Учительница улыбнулась:
— Я же тебе когда-то об этом говорила… Пряма стежка моя, и никто меня с нее уже не свернет. Ты одно знаешь, что я «политическая», а больше-то ведь ничего.
— У тебя, поди, отец и мать тоже против царя?
— Отца, Марфуша, я совсем не помню. Ушел искать счастье на Алдан, да так и не пришел. Погиб, по слухам, от обвала на шахте… Мать умерла, когда мне еще и двух лет не было. Взросла у тетушки, у маминой сестры. Она в то время в городе учительствовала. Домик у нас свой был. Жили незаметно. А потом отправили меня в Ялуторовск, в епархиальное училище к знакомым учителям… Молилась перед экзаменами, на исповеди ходила, верила…
— Сейчас не веруешь?
— Обманул меня бог, Марфуша! Когда приехала после училища в свой город, тетя уже замужем… Дядя Костя — редкий человек, знающий… И оба они были связаны с революцией… И обоих в седьмом году взяли ночью. Осталась я одна. Упрашивала бога: «Спаси их!» Тетю не знаю за что застрелили, а дядя Костя от скоротечной чахотки в тюрьме скончался. Вот так обернулись молитвы-то мои. И ненавижу я сейчас, Марфуша, всех этих! Палачи казнили, а бог благословлял! Ненавижу!
— А если арестуют тебя, да в каторгу?
— Арестуют — ты останешься, Тереха, Макар… Всех не арестуют… Вы тоже по моей же тропинке пойдете. Я знаю. Потому, что она правильная, эта тропинка.
— Ой, страшно, Саня!
— Ничего. Крепись. Настанет добрый час.
13
В тот день уходили к югу последние косяки журавлей, гневалось Родниковское озеро. Макарка лежал на крыше и думал. Вечером в школе они долго спорили с Терехой.
— Придет время — возьмутся мужики за топоры, — говорил Макар.
— Это не впервой.
— Ну и что?
— Стенька Разин брался? Брался. Емельян Пугачев брался? Брался. В пятом году было? Было. А чем кончилось?
— Ни лысого беса ты не понимаешь! На старое глаза лупишь! Пятый год — это, братец, как это… Савраску перед бегами и то наганивают, готовят… Это ре-пе-ти-ци-я!
— Не понимаешь! — передразнивал Тереха. — А ты скажи, вот у нас в Родниках подымутся мужики, а в Елошном или в Падеринке нет. Тогда как? Надо же в одно и то же время. Да и кто тут подымется? Которые богатые — ни за какие коврижки! А бедные, наподобие Оторви Головы, темны еще!
— Что ты на Оторви Голову показываешь? Нас-то больше.
Вчера и дала Александра Павловна Макару эту книжку. В ней и есть ясный и точный ответ на Терехины и Макаровы сомнения: во главе революции будет стоять партия большевиков, рабочие и беднота — главная ее сила! Терешки и Макарки и в Елошном и в Падеринке есть!
— Вот твой калган до чего как раз и не дошел. Партия! Это, братец ты мой, сила, которая объединяет всех.
По-кошачьи тихо подкрался Колька. Выхватил из рук книжку — и наутек. Но Макарка проворнее. Пока писаренок семенил по лестнице, спускаясь вниз, Макарка спрыгнул с крыши сарая и встретил его мощной оплеухой. Книжка запорхала на ветру.
— Ты что, гад, бить? — ощетинился Колька.
И еще последовал удар. Колька винтом отлетел к бричке.
— Где взял книжку? — захлебываясь, орал он. — У потаскухи учительницы?
— У потаскухи? На еще, собачье мясо!
На шум выбежал Сысой Ильич. Кровяной глаз его заблестел по-волчьи. Вывернув у брички валек, он хлестнул батрака по спине. Парень упал. Но тут же вскочил, схватил лежавшую на земле книжку и метнулся к забору. Перевалился через него, упал в крапиву.
— Собак спускайте! — неистовствовал писарь. — Чтобы клочья от него летели!
— Чо они его, искусают, что ли? — сказала стоявшая на крыльце Улитушка. — Он сам их всех кормит.
— Молчать! — налетел на нее Сысой Ильич. — Вон отсюдова к едрене-фене!