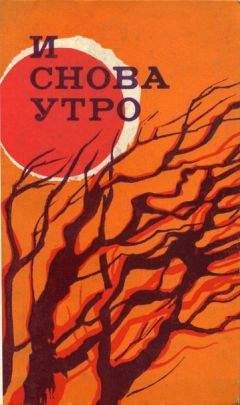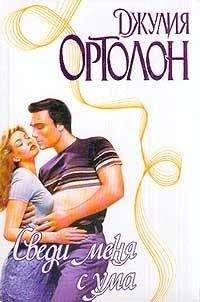Дракон еще до начала бомбардировки приказал нам залечь в канаву на обочине шоссе. Наше преимущество состояло в том, что, пока бомбардировщики разворачивались, колонна грузовиков с гитлеровцами несколько обогнала нас. Только осколки бомб могли долететь до пленных. Но из-за истребителей, которые кружили над нами и обстреливали шоссе из пулеметов, мы вынуждены были лежать, уткнувшись лицом в землю. Пока я не оказался в плену, я все время находился на передовой, принимал участие в бесчисленных атаках и не раз попадал под обстрел артиллерии. Но никогда я не испытывал такого страха, как теперь, когда нас бомбили тяжелые бомбардировщики и обстреливали из пулеметов истребители.
И хотя мне было очень страшно, я понял, что именно теперь появилась возможность, может быть единственная, бежать. Бежать, пока не кончилась бомбардировка. Я отыскал взглядом Дракона. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, боясь пошевелиться. Остальные конвойные были в таком же положении. Я выполз из канавы, потом, пригнувшись, бросился бежать. Пока гитлеровцы поняли, что я сбежал, еще не убранное кукурузное поле укрыло меня. Несколько автоматных пуль просвистело мимо, но мне повезло: ни одна из них не задела меня. Под прикрытием высоких стеблей кукурузы я продолжал бежать в противоположную от шоссе сторону. Я знал, что у Дракона нет возможности преследовать меня, но бежал, пока хватило сил.
Восемь дней, вернее, восемь ночей шел я в сторону фронта, обходя села, питаясь тыквой и картошкой, которую находил на нолях. На восьмой день я попал в болото. Измученный, я крепко проспал двое суток, не чувствуя комариных укусов, а когда проснулся, все руки и лицо у меня распухли и горели. Зудело тело, страшно хотелось есть и пить. Затянув потуже ремешок, я стал обдумывать свое положение. Я свободен, но нахожусь в чужой стране. Надо быть осторожным и не полагаться просто на везение, поэтому села, которые встретятся на моем пути, буду обходить. По болоту я могу идти и днем…
Страшно мучил голод. За последние сутки в поле я не нашел ни тыквы, ни картофеля, ни початков кукурузы, хотя вместо того чтобы продолжать свой путь, потерял всю ночь, бродя по полю в поисках пищи. Утром, когда рассвело, я вернулся в болото, потому что при свете наступающего дня обнаружил село, которое на самом деле было городком, как я узнал об этом от Милады в следующую ночь. Не в силах больше переносить голод, я решил, что ночью, любой ценой попытаюсь проникнуть в город. От сырой тыквы и картофеля у меня болел желудок, а я, на мое несчастье, не был курильщиком и потому не имел ни одной спички, чтобы разжечь огонь.
…И когда снова наступила ночь, голод пересилил чувство осторожности. В болоте, где стоял запах гниющих растений, ила и войны, мне вдруг померещился запах сосисок с тушеной капустой. И, как лунатик, я двинулся по направлению к селу, которое на самом деле было городком, чтобы утолить голод воображаемыми сосисками с капустой, подобными тем, какими кормила меня в первые студенческие годы красивая и дородная фрау Мицци.
* * *
В конце концов я все же уснул. Проснулся утром, когда едва рассвело. Милада спала. Если бы ее грудь не вздымалась и не опускалась при вдохе и выдохе, я мог бы подумать, что она умерла в течение ночи. Но она спал, и я мог рассмотреть ее. Милада была очень красива. При свете дня на ее лице можно было увидеть и красоту, а не одно страдание, которое пронизывало все ее существо. И теперь меня продолжали мучить вопросы, которые терзали ночью.
«Кто же эта женщина?» — спрашивал я самого себя.
Без сомнения, я поступил глупо, связавшись с ней. То, что на ней вечернее платье, вызывало у меня недоверие к Миладе. Жертва гитлеровцев, одетая в вечернее платье, которую застрелили за городом! В это нелегко поверить. Ее имя еще ни о чем не говорило. Конечно, Милада — чешское имя. Но если она на самом деле чешка, то почему в бреду говорила по-немецки, а не на своем родном языке? Ведь все должно бы быть наоборот. Сколько бы языков люди ни знали, в ста случаях из ста они считают только на своем родном языке и бредят тоже на своем языке. А Милада бредила на немецком языке. С другой стороны, в бреду она повторяла вовсе не чешское имя Георг! Это имя вполне могло быть немецким. Не обманула ли меня Милада, сказав, что она чешка? Но в этом случае…
Я не успел прийти ни к какому выводу, так как Милада как раз начала просыпаться. Она открыла глаза и смотрела на меня изучающим и удивленным взглядом, будто вспоминая, кто я такой. Через несколько секунд вспомнила, и тогда случилось то, что еще больше усилило мое недоверие к ней. Я уже говорил, что она была красивой, но все же главным, что отражалось на ее лице, было страдание, причем скорее душевное, чем физическое. Так вот в момент, когда она вспомнила, кто я и какую роль сыграл в последние десять часов ее жизни, каким-то усилием она сумела прогнать с лица печать страдания. Теперь она была еще более красивой. Этот талант преображения меня удивил, укрепив мое недоверие к ней.
— Доброе утро, — сказал я.
— Доброе утро! — ответила она и спросила: — Что с тобой случилось?
— Ничего! Почему ты решила, что со мной что-то случилось?
— Ты изменился. У тебя суровый взгляд, и даже лицо у тебя стало суровым.
Ох эта женская интуиция!
— Могу тебя заверить, что ты ошибаешься. Как ты себя чувствуешь?
— Боль стала терпимой. Думаю только, что температура высокая.
Я потрогал ее лоб. Он горел. Температура у нее была самое меньшее тридцать девять градусов.
— Да, температура есть. Градусов тридцать восемь. Но ты не тревожься.
— Раз уж мне захотелось есть, значит, действительно можно не тревожиться. Слышишь, мне захотелось есть. У тебя есть что-нибудь из еды?
— Ничего! Абсолютно ничего.
— Жаль. Если бы я что-нибудь съела, то, может, сил прибавилось бы. Невероятно, как хочется есть! Не дашь ли мне воды? Мне захотелось пить. А потом, говорят, вода заменяет еду.
Я взял котелок и принес ей воды из болота. Вода была мутной, желтоватой и неприятно пахла. Я приподнял ее голову, чтобы она могла пить.
— Вода не очень-то хороша, но другой нет.
Когда Милада увидела, какую воду я ей принес, она отказалась пить.
— Спасибо! Мне уже не хочется пить, во всяком случае не так сильно, чтобы пить воду из болота.
— Послушай, тебя на самом деле зовут Миладой? — спросил я.
— Да, Миладой.
— И ты действительно чешка?
— Да. Не веришь? Но какой смысл мне обманывать тебя? Когда я сказала тебе, как меня зовут, я была уверена, что умру. А потом… потом у меня не было никаких причин бояться тебя. Я знала, что ты не сделаешь мне ничего плохого.
На губах у меня вертелся вопрос: «Хорошо, ты чешка, тебя зовут Миладой, но что ты имеешь общего с немцами?» Все же я не задал этого вопроса, потому что лицо ее снова исказилось страданием. Мое раздражение рассеялось, рассеялось недоверие к ней, и меня снова охватила жалость.
— Да, действительно, у тебя не было причин бояться меня.
Милада снова закрыла глаза, и мы замолчали. Вставало солнце, и по мере того, как оно поднималось, голод мучил все сильнее. Мне нестерпимо хотелось есть… Я вдруг вспомнил ту сцену из фильма «Золотая лихорадка», где Чаплин усаживается за стол и готовится есть шнурки от своих ботинок, вообразив, что эти макароны. Потом начинает обсасывать гвозди из подметки, будто это куриные косточки. И я начал хохотать. Милада открыла глаза и посмотрела на меня с недоумением, которое сменилось испугом. По всей видимости, она решила, что я сошел с ума.
— Ради бога, чему ты смеешься? — спросила она.
Но я продолжал хохотать и не мог остановиться. Это, без сомнения, была истерика, и я с трудом взял себя в руки. Успокоившись, я схватил котелок, чтобы пойти за водой.
— Постой! Прошу тебя: не уходи, не оставляй меня одну.
— Не бойся, я вернусь быстро.
— Поверь, мне не хочется пить.
— Захочешь потом.
Я ушел. Недавний мой смех напугал меня. Не означает ли это, что в моей голове что-то нарушилось? И куда это я направляюсь? Ведь в болоте лучшей воды все равно не найдешь. Я просто чувствовал потребность двигаться, делать что-нибудь.
Я шел по болоту, пока не очутился на его краю, обращенном в сторону городка. Здесь начинались поля. Часть их была уже убрана, другая так и не была засеяна из-за войны. В сухой земле ничего нельзя было найти для еды. Ни тыквы, ни картошки, ни свеклы. Я со злой яростью смотрел на уходящее вдаль ровное, без единой возвышенности, поле, равнодушное и черное. Оно не хотело накормить меня. Я почувствовал ненависть к этому полю, на котором ничего не было, кроме сорняков. И так, глядя вдаль, через поля, на расстоянии километров двух я заметил колодец.
«Хоть чистой воды из колодца принесу ей», — подумал я и, не раздумывая, отправился в ту сторону.
Но шел я не напрямик, а в обход, держась как можно ближе к болоту, чтобы в случае опасности скрыться. Из-за этого мой путь до колодца длился долго. Колодец оказался не в поле, как я решил сначала, а около проселочной дороги, которая вела в городок.