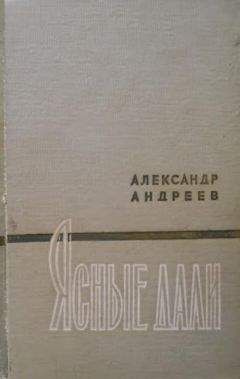Но на боковых дорожках было менее людно. Свет, просеянный сквозь густую листву, дрожал под ногами таинственными пятнами. Порой вдоль чугунной решетки проносился трамвай, дуга срывала с провода нечаянную вспышку, фиолетово озарявшую бульвар, и Нина вздрагивала и замедляла шаг.
— Понимаете, грозы боюсь, — призналась она, досадуя на свою пугливость. — Однажды видела, как молнией дуб разбило… И как только начинается гроза, вижу тот расколотый пополам дуб… Грозы боюсь и собак. В детстве собака укусила, и до сих пор у меня перед ними страх… А они, наверное, чувствуют, что я их боюсь, и каждая, маленькая или большая, считает своей обязанностью полаять на меня…
— А еще чего вы боитесь?
Нина, видимо, уловила в моем вопросе иронию и ответила с неподдельной простотой и искренностью:
— Больше ничего и никого не боюсь. — Она вдруг вскинула голову, и передо мной возник образ гордой Лауренсии.
— А мы вас недавно видели, — сказал я. — В день встречи Чкалова на улице Горького. Мы хотели тогда подойти к вам, но вы уже ушли.
— Встретиться с таким человеком — просто праздник, — задумчиво проговорила Нина, вглядываясь в сумрачную глубину бульвара. — Хорошо, когда люди сильные, смелые…
— А знаете, в тот день мы собрались ехать в Испанию, но нас не пустили, — сказал я и почувствовал, что еще сожалею о несостоявшейся поездке.
Нина остановилась.
— Вы хотели ехать туда — воевать? — И протянула, изумляясь: — О, какой вы… А зачем вы хотели подойти ко мне?
— Вас узнал Саня Кочевой, мой товарищ. Если помните, он года три назад приезжал к вам с Сергеем Петровичем Дубровиным. Знаете такого?
Нина почему-то заволновалась, хрустнула сцепленными пальцами.
— Сергей Петрович? Я считаю его своим крестным отцом. А Саня этот… он на скрипке играет, черноглазый такой? Помню. Где он?
— Здесь, в консерваторию поступил недавно. И третий наш товарищ, Никита Добров, тоже здесь, на автозаводе, в кузнице, работает.
— Саня мне много рассказывал про вас всех. Особенно про Лену и еще про одного паренька, который никого не пропускал впереди себя в дверь — сам первым входил…
Я ничего не ответил и, чтобы скрыть смущение, сорвал с куста листочек, положил его на кулак и ударил другой рукой, но хлопка не получилось. Нина пристально вглядывалась мне в лицо, точно припоминая что-то.
— Теперь я понимаю: тот паренек — были вы. А где же Лена?
— Не знаю, — просто сказал я.
Девушка глядела своими продолговатыми темными глазами уже мимо меня, в полумрак, и улыбалась каким-то своим мыслям.
7Ночью я часто просыпался, ворочался, постель казалась неудобной: то жесткой, то слишком жаркой, в полусне виделись странные глаза Ирины Тайнинской, неимоверно увеличенные; устрашающим голосом она приказывала: «Дыши глубже. Дыши!»
Я проснулся от беспокойной, но радостной мысли: я стану артистом, начну сниматься в кино, народ пойдет меня смотреть… «Ошибся, Саня! Ты говорил — не примут. Вышло не по-твоему, а по-моему. Если сильно захочешь, всего достигнешь!.. Теперь мы с тобой вровень стоим… А про Никиту и говорить нечего… Как хорошо все-таки, что я приехал сюда…».
Комната была полна света. Мне казалось, что это моя радость, излучаясь, прыгает веселыми зайцами по узорам обоев, по дивану, вспыхивает в стеклянных дверцах буфета и на граненой пробке графина. Мне не терпелось поделиться с кем-нибудь своей победой. Но Павла Алексеевна еще спала…
Я распахнул окно. Во дворе было по-воскресному пустынно; трижды прокричал петух возле сараев, а потом зазвонил колокол на старой церквушке, взывая к совести набожных старушек, ушедших в очереди. Удары колокола падали в светлую утреннюю тишину, точно камни в пруд, расплескивая солнечные брызги; пересекая двор, мальчишка тер заспанные глаза, будто смахивал с лица эти брызги.
Я сел за письма. В коротенькой записке я известил мать и Тоньку, что скоро расстаюсь с грузовиком и начну учиться на артиста. А Сергею Петровичу объяснил подробно: с того момента, как я впервые увидел в деревне картину, еще немую, меня не покидала дума сниматься самому, только я стеснялся высказать ее вслух, считая ее утопической; после встречи с Казанцевой, а в особенности после замечания деревенской учительницы желание это еще более укрепилось. Рассказав ему о членах комиссии, о том, что читал на экзамене, я закончил письмо несколько самонадеянным, но искренним заявлением, что никакой я не строитель, а артист…
Я пожалел, что не знал адреса Лены. Для нее у меня уже были заготовлены слова: «Каждому человеку начертан в жизни один-единственный путь. Нужно его отыскать. Я нашел, и вот — счастлив… Чтобы проявить себя, обычного недостаточно…» Интересно, как бы она ответила?..
Я запечатал конверты. На кухне загремели кастрюлей, зашумел, всхлипывая, примус. От папильоток на волосах Павла Алексеевна казалась рогатой.
— Ты уже встал? — удивилась она и, вспомнив про вчерашние мои сборы, поинтересовалась: — Что, Митенька, выдержал ли ты испытания?
— Выдержал, Павла Алексеевна, спасибо!
Я выбежал на улицу — невозможно было скрыть чувства торжества.
Опустив письма в ящик, я направился к Никите.
Он жил в заводском поселке на окраине города, в бараке. Коек сорок выстроилось вдоль стен двумя четкими шеренгами. Большинство рабочих еще спали, с головой укрывшись простынями — от мух; но многие уже встали и завтракали, сидя за длинным столом, остальные ушли, заправив постели байковыми одеялами. Окна были раскрыты; по бараку гулял ветер, пузырями вздувая тюлевые занавесочки, пахло вымытыми полами.
На одной из коек сидел Никита и курил, задумчиво рассматривая какой-то чертежик на листочке бумаги: молот, печь, пресс…
— Ты что тут колдуешь? Не спится? — пошутил я.
Никита спрятал чертежик в ящик тумбочки, вздохнул невесело:
— Пожалуй, не уснешь при такой жизни: гоним брак да и только. Сорок процентов брака! Понимаешь? И не только у меня — во всей кузнице. Надо же что-то делать…
Мы говорили шепотом. Когда я сказал о себе, он неожиданно рассмеялся:
— Черт тебя знает, Димка! Может, в тебе и в самом деле что-то кроется — поди разбери. Ты всегда был с заскоком…
Никита загасил окурок и положил его на пол возле железной ножки кровати. Чтобы не тревожить спящих, мы вышли на улицу, не спеша направились к трамвайной остановке. Поселок был выстроен недавно, и асфальтовые дорожки пролегали среди куч мусора, желтых глинистых ям и холмов песка. Впереди, в дымной лиловато-бурой мгле, лежал город, сзади расстилалось поле, а дальше, за полем, темнел лес.
Никита тяжело оперся на мое плечо и спросил грубовато:
— Теперь скажи… Подумай и ответь: ты крепко веришь в эту свою затею, в актерство, или это только вспышка — сгорела и погасла? Я почему спрашиваю об этом, потому что знаю: без большой веры в себя, в свои силы, нельзя начинать дело. Без веры в то, что тебя не сшибет грузовик, даже улицу перейти нельзя…
Внезапные вопросы Никиты всегда вызывали во мне ощущение замешательства. Я пожал плечами:
— А как же, конечно верю. Иначе разве я пошел бы…
— С оглядкой веришь, — отметил Никита небрежно. — Ну, все равно. Гляди, не оскандалься. Учить тебя будут люди с головой, именитые, и мой тебе совет: не ротозейничай, вникай во все до тонкостей… — Он улыбнулся. — А особенно интересное мне рассказывай, я тоже кое-что знать хочу — пригодится…
До Сани Кочевого мы добирались долго, на четырех трамваях. Дом по-прежнему дрожал от беспорядочной музыки, звуки сочились изо всех щелей — то оглушали басовыми нотами, то жалили пронзительным писком флейт. Человеку постороннему делалось тоскливо и неудобно здесь.
На этот раз Саня, прикрыв глаза, играл на скрипке. Мы не виделись с ним недели три, и он встретил нас почти восторженно — гладил меня по рукаву, суетился, усаживая нас, садился сам, но тут же вскакивал, гремел стаканами, собираясь напоить чаем, но так и не напоил. Узнав, что меня приняли в актерскую школу, он точно остолбенел — рот его приоткрылся, как всегда в минуту наивысшего изумления; потом, как бы очнувшись, неистово заволновался, бесцельно и слепо начал тыкаться в тесноте, большой и нескладный, перекладывая скрипку с места на место.
— Ты врешь, Митяй! — заговорил он почему-то испуганно. — Ты все выдумал! Этого не могло случиться… Это все равно, что поступить в оркестр, не имея слуха… Ты, наверно, надул комиссию, Митяй. Я знаю тебя… — Бессильно сел на койку, опустив руки между колен, и сказал с отчаянием: — Ну, зачем ты это сделал?..
Мы с Никитой рассмеялись.
— Откуда ты знаешь, что у него нет слуха? — спросил Никита. — И вообще, Саня, ты все усложняешь… Не боги же, в самом деле, горшки обжигали.
Саня устало проговорил, как бы смерившись с неизбежным: