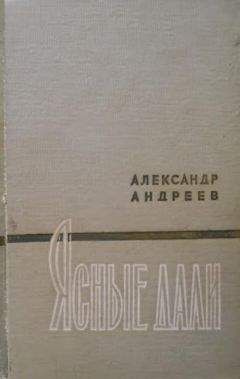Саня устало проговорил, как бы смерившись с неизбежным:
— Вот она, Москва-то… Ударила в голову, как хмель, затуманила мозги… Эх, ты!
Слова его обидно задели меня.
— Даже Никита согласился со мной, — сказал я с упреком. — Но ты… Для тебя непростительно так говорить. — Я взял листок с нотами и рассеянно стал рассматривать непонятные для меня значки. — А может быть, ты ревнуешь?
— Дурак, — беззлобно выругался Саня и опять заволновался, затеребил густые волосы. — Вот убей меня, Митяй, а я не могу тебя представить артистом. Не могу — и все! Такой труд, столько терпенья — разве ж это для тебя?
Кочевой раздражал меня своим простодушием и наивностью.
— Погоди, начну сниматься, сыграю Павла Корчагина — представишь. А наши картины смотрит весь мир, все человечество! — Никита и Саня переглянулись. Чтобы смягчить самонадеянный тон, я сказал поспешно: — А знаешь, с кем я буду учиться? С Ниной Сокол. Я вчера познакомился с ней.
Длинные ресницы Сани дрогнули.
— Вот ее я представляю артисткой, большой артисткой! — Он ударил кулаком по своей коленке и улыбнулся застенчиво: — Не обижайся, Митяй… Факт совершился, теперь будем ждать исхода.
— На детей не обижаются, Саня, — заметил Никита. — А ты — младенец.
В комнате ни на минуту не прекращалась музыка — пианист отрабатывал упражнения, рыжий неустанно взмахивал смычком, придавив подбородком скрипку к плечу, любовался гибким движением своих пальцев.
— Уведи нас отсюда, Саня, — взмолился Никита, беспомощно оглядываясь. — Все-таки стук молотов в кузнице лучше, чем такая музыка. От нее, пожалуй, с ума сойдешь…
Солнечный луч узенькой полоской улегся на стол, перечеркнул нотные страницы, напоминая о загородной прогулке, о шелесте лип в парке, о лодке на реке…
8Сергей Петрович прислал мне ответ:
«Признаться, я был несколько озадачен, Дима, прочитав твое письмо, — слишком крутой и неожиданный для меня поворот ты совершил. Но я не стану упрекать тебя, если это влечение победило в тебе все остальные и ты готов к тому, на что идешь. Ведь школа эта — наша, советская, учителя в ней тоже советские; одного из них, Николая Сергеевича Столярова, я хорошо знаю — вместе воевали когда-то, так что за воспитание твое я спокоен. Я об одном лишь прошу: не рассчитывай на легкое будущее. Делу, которому ты себя посвящаешь, придется учиться всю жизнь, а учеба эта трудная, кропотливая, она потребует от тебя всех сил души, всех чувств и гражданского мужества. Будь честен перед собой и товарищами, не ленись, изучай все глубоко и серьезно. Желаю тебе удачи…»
Я почти декламировал это письмо, расхаживая в одиночестве по пустой и тихой квартире. Кот Матвей педантично ступал за мной по пятам, ожидая, когда я сяду, чтобы забраться ко мне на колени. Но мне не сиделось. Я смотрел в окно, как в сквозной синеве над куполом старой церквушки в радостном исступлении метались голуби, и беспричинно смеялся. До чего же хорошо жить на свете!
В автобазе я получил расчет, купил себе две рубашки, ботинки; на костюм денег не хватило, и Павла Алексеевна аккуратно почистила, выгладила и зачинила мой старый; я выглядел почти нарядным для начала занятий.
Впервые я не съехал по перилам, а медленно, даже с некоторой солидностью спустился с крыльца, хотя ног своих и не ощущал. Достигнув «Колизея», я несколько раз обошел пруд, усмиряя в себе отчаянный трепет, не решаясь переступить порога школы, — еще твердо не верилось в то, что произошло. Сорок человек из девятисот — подумать только! В конце бульвара, за метро, густо-красный пылал закат, как бы подчеркивая мое смятение. Зажглись фонари, и рыжие пятна отсветов задрожали на воде.
Большой зал был полон праздничного сияния — от люстр, от улыбок, преисполненных тихой радости и торжества, и казалось, от самой молодости. Сколько красивых девушек и какие приятные парни!.. Вот если бы мама поглядела, где я нахожусь — среди лучших и самых талантливых… Возникали страстные мечты о будущем, о высоких свершениях. «Вот, — думал я, — тот отряд, которому суждено, быть может, произвести переворот в кинематографии, сказать во весь голос свое, свежее, неповторимое слово в искусстве…».
Учащиеся группами стояли или прохаживались по залу, ласковые, внимательные и учтивые.
На одной стене висели портреты Станиславского, Тарханова, Качалова, кинорежиссеров Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина; на другой — кадры из фильмов «Депутат Балтики» и «Петр Первый», только что вышедших на экраны: Николай Черкасов в роли профессора Полежаева с пледом на плечах и свечой в руке перед письменным столом: «Я работаю в своем кабинете, чтобы пахарю легче было работать в поле», и Николай Симонов — Петр Первый возле пушки: «Так стрелять!..».
Но на минуту в ясность этого вечера упала тень: среди студентов я, к удивлению своему, увидел и Анатолия Сердобинского, хотя в списках принятых, я это хорошо помнил, его не значилось. Выходит, тетушка, народная артистка, постаралась за племянничка…
Волосы Сердобинского, будто спрессованные, маслянисто отсвечивали, лицо играло свежим румянцем. Анатолий толпил вокруг себя девушек. Многие из них находили в нем сходство с артистом Андреем Абрикосовым. Я слышал, как это сказала ему Алла Хороводова, подросток с томными выпуклыми глазами фантазерки. Сердобинский, видимо, гордился этим, хотя ответил с деланным безразличием:
— Вы находите? Внешнее сходство возможно: он красив. Но по своим творческим возможностям — не богат, однообразен…
Мне он кивнул, как бы между прочим, и тут же шепнул что-то Ирине Тайнинской; девушка покосилась на меня и, чтобы скрыть смех, выдернула из рукава платочек и уткнулась в него носиком.
«Ах, ты так! Ну, держись!..» — мысленно пригрозил я Сердобинскому и подступил к нему вплотную:
— Как ты попал сюда? Ты же провалился на экзаменах?
Сердобинский поежился, точно за воротник ему плеснули ледяной водой, румянец на щеках сгустился. Он нагнулся к моему уху и прошептал:
— Не твое собачье дело! Понял? — И демонстративно поправил узел галстука. — В отличие от других, я не суюсь суконным рылом в калашный ряд. Мне это место принадлежит по праву.
— Может быть, по наследству?
Ирина Тайнинская переломилась в талии, качнувшись ко мне.
— Да, по наследству, если хочешь. — И я опять отметил с беспокойством: один глаз ее, что с коричневой крапинкой, смеется, дразнит, другой грустит. — Сколько сыновей и дочерей артистов в театрах и училищах? Целые династии! Это традиция.
— Традиция? — Сзади меня стоял Леонтий Широков в вышитой рубахе-косоворотке, огромный и улыбающийся; он быстро освоился здесь, будто всю жизнь провел в Москве, а не в керженском «медвежьем» углу, откуда он так поспешно перебрался, сняв в Бабушкином переулке у сердобольной вдовы диван со скрипучими пружинами. — А сколько среди таких наследников бездарностей и просто бездельников? Пропасть! Хотя папаши и мамаши их талантливы. Значит, это уже не традиция, а спекуляция… — Широков легонько взял Сердобинского за отвороты пиджака. — Так-то, молодой человек.
Анатолий растерянно мигнул несколько раз и, отстраняя его руки, буркнул что-то грубо и враждебно. Улыбка Леонтия сделалась еще шире.
— Однако светские манеры у тебя лишь поверху, вроде лакового блеска. Подозревает ли об этом твоя тетушка?
Сердобинский отвернулся. Девушка с челочкой, Зоя Петровская, протянула с ехидством:
— Хорошенькая беседа для знакомства…
— Как вам не стыдно! — разгневанно проговорила Нина Сокол, обращаясь ко мне и Широкову. — Это недостойно — бить человека в то место, где у него болит. Это изуверство! Надо щадить самолюбие другого…
Леонтий проворчал хмуро:
— Таких щадить не надо, он наглец.
В это время в дверях показались Михаил Михайлович Бархатов, Столяров и Аратов. Их сопровождали директор школы Кондрашук, юркий человечек с узким, рыбьим лицом, и заведующая учебной частью Мария Спиридоновна, с пышными волосами медно-красного цвета.
Учащиеся, внезапно зааплодировав, двинулись навстречу своим учителям. Михаил Михайлович игриво шаркнул ножкой и с шутливой кокетливостью поклонился нам. Мы рассмеялись и еще сильнее захлопали в ладоши. Он располагал к себе по-детски бесхитростной улыбкой, полной мудрой и снисходительной доброты к нам. Сняв пиджак, он остался в одном жилете, как тогда, на экзаменах, и стал похож на доброго домашнего дедушку, который приготовился рассказывать старинные сказки про богатырей и волшебников.
Столяров казался подчеркнуто прямым и строгим, будто на нем, вместо обычного костюма, была воинская форма; жесты скупые и точные, губы надменно поджаты, бритая голова отполированно блестела, а глаза, черные-черные, с огненными точками, казалось, прожигали насквозь; изредка он нервно пожимал плечами, сводя лопатки.