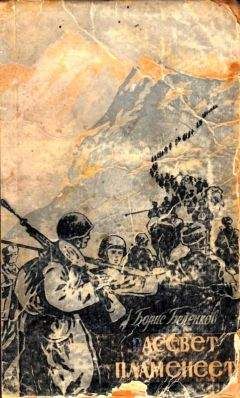— Почему? — с удивлением спросил Рождественский.
— А вот — летят, черти, курлычут! — возмущался Бугаев. — На солдата тоску нагоняют. Говорят: это из наших мест летят…
Рождественский помолчал. Затем ответил:
— Русскому солдату — где бы он ни был — везде его милая Родина видится… К своему делу, к дому тянут воспоминания. Ну и пусть! Злей будет с гитлеровцами драться.
— Будь перед нами сейчас гитлеровцы, солдат бы тогда не изнывал. А тут духота стоит невыносимая, траншеи роют — обвариваются. Не горы взглянут — чернота! Говорят: это край нашей земли!..
Вдали, за Сунжей, в сизоватой дымке дыбились горы, вершины их сверкали ослепительной белизной. Подножье, покрытое лесом, было затемнено и угрюмо.
— Н-нет, Павел, — задумчиво проговорил Рождественский, не глядя на Бугаева, — здесь далеко еще не конец советской земли. Но для отхода наших войск — это уже предел. — Затем он спросил: — Где твой командир роты?
— Роет траншею.
— Сам?
— А чего ж… Размяться — это дело полезное.
— Здорово! — усмехнулся Рождественский. — Пройдем-ка к нему.
Командиру первой роты лейтенанту Петелину было двадцать пять лет. Гибкая фигура его казалась мальчишеской. Он любил принарядиться, но не всегда следил за необходимой офицеру выправкой. Чубатую голову он обычно причесывал пятерней. Пренебрегая необходимостью личного примера, часто появлялся в расположении роты без ремня и головного убора, а иногда и без гимнастерки.
Рождественский увидел Петелина в траншее. Вместо приветствия и рапорта лейтенант с усмешкой на разгоряченном лице крикнул:
— Ну, как, товарищ комиссар, доходная у нас работенка?
Рождественский промолчал. Петелин продолжал копать, то и дело поплевывая на ладони. Синяя майка, мокрая от пота, прилипла к его плечам, голова была повязана носовым платком.
— Может, отдохнем, что ли? — предложил Рождественский.
Петелин разогнул спину, смахнул со лба крупные капли пота.
— Работать легче, чем сидеть и ждать, — он поднялся на руках над траншеей и легко выскочил на насыпь. — Мечтаю в свое удовольствие, когда работаю!..
— Чалму эту не мешает заменить головным убором, — заметил комиссар. — Да гимнастерку наденьте, подтяните живот ремнем… лирик! — уже с улыбкой добавил он.
Вяло шевеля руками, одеваясь с неохотой, Петелин, словно ища поддержки, вопросительно взглянул на Бугаева, но тот отвернулся.
— О чем мечтаете, любопытно? — спросил Рождественский.
— В дыру загнали, воюем вот лопатами! А фашисты к Червленой подходят! — скороговоркой выпалил лейтенант.
— Ого, веселый разговор! — воскликнул Рождественский. — Ты бы Симонову, командиру батальона, об этих мечтах рассказал…
— И говорил… Знаю уже… Ему только скажи!.. Никто не хочет понять, как душу тоска разъедает. «Терпение!..» А когда конец терпению нашему?
Подойдя ближе, Рождественский внимательно оглядел командира роты. Потом спросил:
— Вы это серьезно, лейтенант?
— Товарищ гвардии капитан, но разве солдаты не видят, как по ночам пожары за Тереком в Моздокской степи полыхают?.. Послушайте-ка, что говорят в окопах.
— Что, например?
— Даешь наступление!.. Хватит ждать!..
Рождественский покачал головой:
— Если нам все окружающее воспринимать только чувством — без строгого расчета, — никогда мы не научимся управлять людьми. «Даешь!..» А вы что же солдатам ответили — «Ура!..»?
— Разрешите?
— Довольно!.. А то вы, пожалуй, договоритесь…
Рождественский сделал несколько шагов в сторону, кивком головы предложил Бугаеву следовать за ним, потом остановился и повернулся к Петелину: тот увидел, что он улыбается.
— Слушайте, лейтенант, — произнес он мягко, — войну по своему нраву вам не повернуть! Придется перестраивать свой характер, Петелин…
* * *Темная ночь.
В низменности, на берегу Сунжи, не слышалось стонов отар овец, не громыхали грузовые машины. Глыбы земли, кучи мелкого щебня, еще не раскиданные вокруг свежевырытых окопов, причудливо проступали сквозь тьму. Напряженная тишина рождала у человека настороженность и тревогу. Казалось — вот сейчас расколется тьма, полыхнет сухая трава, трескучими прыжками разбежится огонь, затопит пламенем и подножья меловых скал, и затаившуюся, поросшую чертополохом степь. Быть может, впервые над районом обороны гвардейской стрелковой дивизии тянулась такая напряженная ночь.
Чувствуя, как постепенно исчезает усталость после дневных работ, Петелин и Бугаев молча лежали рядом. Чуть подальше на привялой траве растянулся Рождественский. Он лежал, ощущая теплую землю; свежий ветерок заползал под ворот еще не просохшей от пота гимнастерки. Все трое слушали глухо доносящиеся из-за далекого Терека бомбовые разрывы.
Рождественский находился во власти нахлынувших на него мыслей о семье. От неизвестности, — что же с Марией, — тоска цепко хватала за сердце. После каждого взрыва он думал: «Вот, может быть, в эту минуту взлетел на воздух и мой дом». И перед глазами вставала беленькая хатка в степи, неподалеку от станции Терек, где он родился и вырос, где играли и смеялись его дети. И, точно ему в ответ, там, за Тереком, над толщею тьмы небо забилось мутно-красными отблесками зарева.
Он не мог больше лежать. Потянуло в штаб батальона, который находился в селении Закан-Юрт. Бугаев вызвался проводить его, но Рождественский отказался. Спускаясь с горы, он тихо повторял: «Не думать об этом… не думать!» Но, чтобы не думать о жене, детях, надо было не любить их. И он словно видел сквозь тьму, как они бегут к станции Червленной, и словно слышал плач маленькой девочки, родившейся без него, имени которой он даже не знал. Видел Яшу и Анюту, с трудом поспевающих за матерью. Они, сосредоточенные и молчаливые, с испуганно раскрытыми глазенками, изнемогают и семенят ножками — вперед, вперед… «А если они не успеют перейти Терек?! Не думать, не думать. В сущности я же ничего не знаю, может быть, Марии удалось выехать…»
Войдя в штаб батальона, Рождественский принялся тормошить комбата, майора Симонова, вздремнувшего на топчане. Симонов поднялся и недоуменно уставился на комиссара. Никогда Рождественский не будил Андрея Ивановича, страдавшего бессонницей, если тому удавалось уснуть. Симонов это знал. Он выжидательно смотрел на Рождественского. Короткий пучок его седоватых усов словно шевелился.
Рождественский молча присел к столу.
— Случилось что-нибудь, Саша? — спросил Симонов.
— Да нет… Почти ничего не случилось.
Поглядывая искоса, Симонов достал газету, оторвал кусок на закрутку. Размягчая пальцами бумагу, спросил:
— Почему вдруг грустный?
— Осень. Пора такая.
— А без лирики можешь ответить?
Пытаясь улыбнуться, Рождественский скривил губы и отвернулся.
— Прицел установлен — стреляй! Чего отворачиваешься? — допытывался комбат.
Безмолвно рассматривая смуглое спокойное лицо Симонова, Рождественский подумал: «Что я ему скажу?» Затем он заговорил медленно, с трудом произнося каждое слово:
— Андрей Иванович, вспоминаешь ли ты наших общих с тобою друзей, погибших в снегах под Москвой?
— Что-то спросонок не пойму, к чему ты клонишь?
Рождественский прошелся к двери и обратно.
— К чему я «клоню»? Да просто так. Я часто думаю об этом. Теперь вот под Сталинградом…
— Выше подними голову, Саша! Эти думы гони…
— Спасибо за совет, но речь идет не обо мне.
— О ком же? Ты все-таки расскажи мне толком.
— Иду я из первой роты, иду, а в голову лезут мысли, черные, какие-то колючие и обидные.
— Мохнатые, одним словом, — усмехнулся Симонов.
— Всякие, командир, — хмуро продолжал Рождественский. — Все мы знаем, что за нашими плечами — Родина… Наши люди, Андрей Иванович, в бессонные, тревожные ночи, наверное, ждут нас, ловят звуки наших шагов. Во всей стране нет человека, который смотрел бы на эту войну, как на что-то далекое, постороннее…
Симонов встал с топчана, шлепая босыми ступнями по земляному полу, прошел к двери, плотно ее прикрыл. Теперь он стоял перед Рождественским, грузный и кряжистый, с широко расставленными ногами.
— Во всем, что ты наговорил, Саша, — сказал он я тяжким вздохом, — признаюсь, сразу невмоготу разобраться.
— Сегодня заревом небо покрыто в направлении станицы Николаевской, — сказал Рождественский. — А несколько дней тому назад пожары еще были в район Моздока. Судя по всему, гитлеровцы двигаются, не встречая серьезного сопротивления.
— Командование об этом знает. А наше дело выполнять приказ.
— А разве я предложил обратное? — раздраженно спросил Рождественский.
— Мне, понимаешь, показалось, будто ты кому-то приписываешь неразумную медлительность…