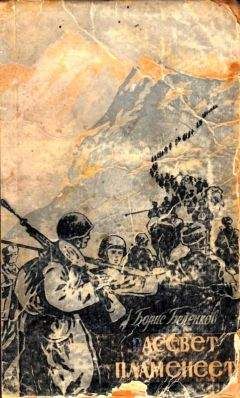— Мне, понимаешь, показалось, будто ты кому-то приписываешь неразумную медлительность…
Рождественский подошел к окну и открыл обе створки. На небе — ни звездочки, в селении — ни огонька. Всюду мрак. Легкий холодок ночи охватил разгоряченное лицо.
Повернувшись к Симонову, Рождественский спросил:
— Чья очередь спать на столе?
— Зачем?.. Поместимся на топчане.
— Тесновато.
— Давай — валетом, — предложил Симонов, потирая пальцами лоб, обдумывая, как начать разговор по душам.
— Вот, ты все в ротах, а я тут, ей-богу, скучаю, — начал он, еще не будучи уверен, что правильно подобрал тон. — Хочется перекинуться словом-другим, да не с кем.
Растягиваясь на топчане, Рождественский с усмешкой ответил ему его же словами:
— Наше дело выполнять приказ. О чем тут говорить? Мы — солдаты, Андрей Иванович.
— Солдаты, верно. Все в батальоне — солдаты… Да некоторые чересчур ретивы: «Когда же нас в дело пустят?» — все спрашивают…
Опираясь на локти, Рождественский приподнялся:
— Ага, видишь! Тяжелое, горькое это дело — война, а вот люди рвутся в бой! Послушал бы ты, каким тоном поют ротные командиры.
— Знаю. От Петелина слышал.
— А мне нравится такая песня, — признался Рождественский, умолчав о своем разговоре с лейтенантом. — Поют не голосом, а сердцем. Я не очень старался обрывать этот мотив.
Посмеиваясь, Симонов проворчал:
— Радуешься, вижу. А я отругал Петелина. Не могу терпеть этаких нетерпеливых…
В дверь постучали. Не ожидая ответа, в комнату вошел старший адъютант Мельников. Его возбужденный вид сразу насторожил комбата и комиссара.
— Разрешите, товарищ майор?
— Что случилось?
— Командир полка приказал: подтянуть батальон к шоссейной дороге и ждать автомашины, — не переводя дыхания, доложил Мельников.
Симонов быстро взглянул на Рождественского.
— Ясно, — твердо произнес комиссар в ответ на вопросительный взгляд комбата. — Вы послали в роты связных? — спросил он у Мельникова.
— Не успел, но… — Симонов, торопливо натягивая сапоги, оборвал лейтенанта:
— Без всяких «но»! По тревоге поднять батальон.
— Есть! — козырнув, Мельников исчез за дверьми.
Застегивая ремень, на котором тяжело обвисал пистолет, Симонов теперь уже с улыбкой посмотрел на Рождественского.
— Н-ну, так вот!.. — проговорил он уверенно. — Сунженские будни в обороне кончились, комиссар. Вероятно, махнем в Моздокскую степь навстречу ордам Руоффа. А ты как полагаешь? Туда?
— Не иначе, — с нетерпеливым чувством радости тотчас согласился Рождественский. — Я это предчувствовал — пора! Пора нам выступать, дорогой мой Андрей Иванович.
Они быстро оделись и вышли на улицу. Звезд на небе вовсе не видно. Трава у ограды казалась синей, все хаты, деревья затянулись в темноте. Только широкая дорога более отчетливо, чем другие предметы, серела, ровной лентой простираясь из населенного пункта в Сунженскую низменность. Оттуда доносились отрывистые команды, говор. Но не слышалось еще гудения моторов автомашин, которые должны бы подойти для переброски гвардейских полков в Моздокские равнины.
Рождественский испытывал чувство, словно его вскинула на огромную высоту, которая раньше казалась ему недосягаемой.
— Как бы в ротах никого не забыли, — озабоченно проговорил Симонов. — Люди разбросаны по линии обороны. Поднимут ли всех?!
Еще днем, как только полковник Егоров осознал неизбежность отступления, — это было сразу после того, когда ему доложили о численности прорвавшихся танков в прошлую ночь за Ледневым и Капустиным, в его голове укрепилась одна и, как он считал, правильная мысль: нужно вытянуть из угрожаемой зоны все, что еще возможно было спасти. Он верил в помощь командующего северной группой войск Закавказского фронта, но считал, что эта помощь будет слишком поздней.
С самого утра железной дорогой близко к месту боя подкатывались бронепоезда. Они тотчас же из всех своих орудий гремели залпами по гитлеровцам. Поддержка бронепоездов была той самой реальной помощью, которую Червоненков обещал и которую он мог сейчас оказать полковнику Егорову в его неравной борьбе с врагом.
К полудню бронепоезда стали останавливаться на полустанке, что в семи километрах от станции Терек. Отстрелявшись, они уходили к Червленной, в зону предмостного укрепления, под защиту зенитных орудий.
Пустел полустанок, вчера еще оставленный постоянными жителями. Только дед Опанас Соломкин со своею женою и остались здесь, с горьким чувством ожидая чего-то страшного. Старик ходил по баштану и прикрывал арбузы.
Жена же его, бабка Дарья, с приближением фронта сразу обмякла, все у нее валилось из рук. Вот и сейчас, сгорбившись, она сидела на краю колодезного сруба, вросшего в землю, и, сморкаясь в свой передник, причитала сквозь слезы:
— Всю жизнь мы тут. Трудов-то сколько положено. Присматривали каждую шпалу. То, бывало, на мостике смолкой краек бруса подмажешь, а то к насыпи дернушек с травкой приложишь…
— Несчастные мы, верно, да только наше несчастье не станет ни большим, ни меньшим, какую б ты, старуха, ни пускала слезу. Не больно-то слеза твоя важка, — добавил дед, повысив голос.
Встав, потоптался возле колодца, помолчав некоторое время, как бы раздумывая о чем-то, глянул на жену раз-второй, недовольно поморщился, потом сказал:
— М-да-а… хозяйство мы исправно держали. А теперь вот видим, как рушится все. Невесть к чему эта глупая война!
Он вслушался, и бабка Дарья увидала, что вой пролетавшей мины заставил его пригнуться к самой земле.
— Ложись, ложись, за колодец! — крикнул старухе.
Еще не осыпался бурый столб пыли, поднятый взрывом, а дед уже ворчал, выглядывая из-за грядки:
— Жили, как тебе хочется, а придут анафемы, придется жить, как прикажут. Не жизнь, а потемки! Для воров хорошо, а куда податься рабочему человеку, у кого защиты просить?
Из-за угла домика выбежали четверо бойцов. Первым во дворик вышел сержант. Он снял пилотку и вытер ею потное лицо.
— Разрешите, бабуся, водицы холодной?
— Вот что?! Холодной водицы ему захотелось… Хвост зажат между задних ног и бегут, бегут!
Сержант опешил от такого неожиданного приема, отступил на шаг.
— Что ты такая свирепая, старуха? Не понимаешь маневра, а судишь.
— Если бы ваши ноги пятками наперед повернулись, тогда бы я поняла. То как же понять старухе такие вот маневры?
— Грех тебе, бабка, швыряться такими словами.
— За меня, мил-человек, беспокоишься зря. Ты лучше перед матушкой-Родиной о своих-то грехах подумай. Стонет вся земля, кровью смоченная. А вы по ней все трусцой да трусцой! Куда же уходите? На кого вы народ оставляете? Водицы вам дай!
— Ну, извините, — опуская глаза, глухо проговорил сержант, — обойдемся…
— Да разве воды жалеем? — вмешался дед Опанас. — Чего же это получается, голуби вы мои? Бежите с родной земли, а? Бежите?
Дарья не унималась:
— В какие страны путь-то держите?
Вступаясь за сержанта, рядовой Цымбалко сказал:
— Слухай, бабусю, у мене самого маты залышылась на Вкраини. Та шо ж робыты? Ты, диду, заспокой стару свою. Вона ж стратегию не розумие.
— А что и розуметь-то, сынок? От разумения такой вашей стратегии на душе не легче, — сердито ответил дед, опираясь на палку.
Дарья спустила в колодец бадью и достала воды.
— Пейте, — сказала она, плача. — Своих двое… Может быть, так вот, как вы…
Напившись, вытирая пилоткой губя, сержант ответил в раздумье:
— если уйдем, скоро вернемся, бабуся.
— Обязательно! — подтвердил Цимбалко.
— Знаю, вернетесь, — согласился дед. — Да кого застанете? — Он наклонился, вслушиваясь в свист мину. — А вчерась тут гнали овец, и запустил в них немец с ероплана. боже ж ты мой, где шкуры клок, куда отлетела голова с рогами. А большей частью — поранило.
— Это что, тоже ваши? — спросила бабка?
Медсестра Лена Кудрявцева вела к полустанку раненого солдата. Сержант бросился навстречу.
— Коля, жив?
— Жив, — простонал Рычков и потянулся рукой к повязке.
— Мыкола, друже мий, жывый? — Цимбалко дотронулся до окровавленного бинта, вздрогнул и отдернул руку.
— Голова у меня словно бронированная. Вторая царапина… И все рядом.
Медсестра опустила раненого на траву и, тяжело дыша от усталости, провела по своему разгоряченному лицу дрожащими пальцами.
— Хороша царапина, — сказала она. — Один миллиметр, и поминай как звали. Лежи спокойно, сейчас перевяжу заново. Воды бы надо, товарищи…
Поднося ведро с водой, Дарья взглянула на рану, всплеснула руками:
— Господи, кровь… кровь-то сочится как!
Сжав губы, Рычков приподнялся. Переждав, пока успокоилась боль, спросил: