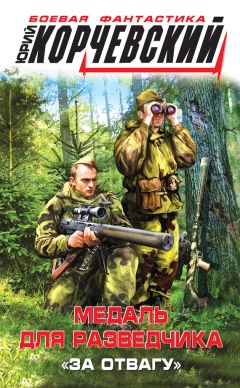— Шабаш, теперь я не кусачий, — грустно прошепелявил «Бура», — оперы повышибли зубы на допросе. — Он встал с Борисом в пару. Не сговариваясь, пошли рядом по кругу. «Бура» мгновенно приспособился к обстановке: когда они поворачивались спиной к калитке, по обеим сторонам которой стояли надзиратели, он шепотом выкладывал новости. Когда пары поворачивались, они шли с каменными лицами. «Бура» быстро рассказал удивительную историю. Борису показалось, что часовые на вышках и надзиратели давали им поблажку, не мешали разговору.
— Мне вменяли «контру», — торопился «Бура», — я отнекивался, на мне провели «термическую обработку» — шпарили кипятком, потом били по зубам никелированными молоточками. И я, гад, сломался. Признался во всех смертных грехах, коих и не совершал, мол, вредитель, шпион, этот, как его, террорист. Тем и спас душу от мук. Ладно, поместили меня в «одиночку». И вдруг… здрасьте-пожалте, входит в камеру сам Каримов.
— Брешешь?
— Чтоб мне сто лет воли не видать! — «Бура» тайком перекрестился. — Каримов сел, угостил папироской, всю пачку оставил. И так все разобъяснил: «Через три дня вас будут судить, это — хреново. Десять лет без права переписки гарантирую. Я же попробую отвести «маслины» от вас с Борисом. За это вы должны напрочь забыть про Эльзу, упрямо толковать, что лезли ко мне в дом с целью хищений. Клятву дал, мусульманин, после суда отправят нас не к «контрикам», а к уголовникам, а оттуда ему нас легче будет вытянуть, руки, мол, у меня длинные. Итак, забудь про девчонку! Спасешься от смерти.
— Пусть стреляют! Не могу отказаться от Эльзы!
— Ну и хрен с тобой, пропадай! — «Бура» досадливо сплюнул. — А я жить хочу, к теплому морю съездить должен, на крупный фарт надеюсь. Девку-то свою с того света не вернешь. — «Бура» был в замешательстве. — Да, Карим предупредил: «Сегодня вечером будет очная ставка, чтоб мы не толковали вразнобой. Раскинь мозгой, блаженный!..»
«Бура» не обманул. Перед самым ужином Банатурского привели в комнату без окон, где кроме Мурашко, восседал важный военный без знаков различия на гимнастерке. Сюда же доставили и «Буру», усадили напротив.
— Очная ставка! — простуженным басом объявил незнакомый военный. — За ложные показания дополнительный виток за решеткой. Итак, Банатурский, знаешь ли ты этого парня?
— Еще бы, все звали его «Бура», — Борис решил не кривить душой, — вместе ехали в Сибирь из Кировской области.
— А ты, Старостин?
— Полностью подтверждаю.
— Со всеми пунктами обвинительного заключения согласны?
— Э, нетушки! — решительно затряс головой «Бура». — Там мне приписали про какую-то девку. — «Бура» дурашливо кривил щербатый рот. — Мол, мы лезли в дом Каримова с целью выручить немецкую овчарку. Не до девок нам, жратвой разжиться хотели.
— Нужно наказать тех, кто готовил обвинительное заключение, — деланно-строго выговорил Мурашко начальник. — И вам впредь наука.
— Виноват, товарищ начальник! — скромно потупил голову Мурашко.
— А ты, Банатурский, с какой целью проникал в дом генерала Каримова? — И, опережая Бориса, устремив прямо ему в лицо настойчивый взгляд, посоветовал. — Знаю твой характер. Не спеши, хорошенько подумай.
— А чего мне думать, — как можно беззаботнее произнес Борис, — полностью поддерживаю слова Старостина. — Борис старался не глядеть на следователей, был противен сам себе. Столь гадливого чувства прежде ни разу не испытывал, было такое состояние, будто уголовники окунули его башкой в парашу и не отпускали. Краем глаза он все же невольно отметил, как силился удержать довольную ухмылку мокрый от напряжения следователь Мурашко. — Да, и ни одной живой души в доме мы вообще не видели.
— Да и как вы могли увидеть, если дом Каримова был пуст? — Начальник, откровенно удовлетворенный, потирал руки. — Что ж мы с вами, товарищи, предъявим трибуналу, а? Молодой немки в живых, увы, нет, тот уголовник, что лез в дом, убит, у него не спросишь. А в остальном… забили вы друг другу головы, пошли по самым легким следам и уткнулись в г….
— Не было там девки! — обрадованно встрепенулся «Бура». — И потом, мы с Борисом вообще за калитку не заходили, стояли на стреме, на улице.
— Все ясно. Ладно, подписывайтесь вот здесь и здесь. Только разборчиво. — Начальник подождал, пока парни расписались в бумагах, забрал их, хитровато сузил глаза. — Слышь, Мурашко, не знаю, как тебе, а мне, честно говоря, жаль этих хлопцев, разве они — война во всем виновата, оголодали и полезли в чужую хавиру.
— Вы, как в воду смотрите, товарищ начальник! — Захлопал рыжими ресницами Мурашко. — Ну, поставят хлопцев к «стенке», а какая польза выпадет стране? Вы меня извините, но… нельзя ли дело прикрыть?
— Ну, Мурашко, скажешь тоже! — притворно нахмурился начальник. — Наказание они, конечно, заслужили. А что, хлопцы, если мы вам и впрямь послабление сделаем, а? Нас под монастырь не подведете?
— Послабление? — насторожился Борис. — Какое же? — Он ждал от хитрых следователей какой-нибудь гадости, предчувствовал: они ведут свою партию, заранее отрепетированную.
— К примеру, отправим вас в Красную Армию, на фронт?
— На фронт? — Борис от неожиданности привскочил со стула. Не издевается ли над ними гражданин высокий начальник? Попасть в армию, на фронт — его самая заветная мечта. — Я бы пошел с полным удовольствием.
— Эх, где наша не пропадала! — махнул рукой «Бура». — И меня запишите, двину на войну, буду бить немецко-фашистских захватчиков. — Озорно, не таясь, подмигнул Борису.
— Значится, так, хлопцы, — начальник потеребил седой вихор, склонился над столом, — мы со следователем Мурашко, можно сказать, идем на должностное преступление ради спасения ваших заблудших душ, — перекинулся многозначительным взглядом с Мурашко, — завтра вас будут судить. Дело полностью закрыть мы не в силах, но… слово офицера, послезавтра вы уже будете в воинском эшелоне.
— Обманете ведь?
— Плохо о нас думаешь, гражданин Борис Банатурский!..
Оказалось, что следователи и впрямь их не обманули. Буквально на следующий день Банатурского и Старостина привели под конвоем в зал заседания трибунала. Борис думал, что суд — некое величественно-строгое здание с лепными украшениями и статуями бога справедливости, но… в пустом, не больно-то чистом помещении с зашторенными окнами, за столом, крытым красным сукном, восседали трое военных, все, как на подбор, очкастые и лысые. Воинских званий у членов трибунала снизу разглядеть было невозможно, да ребятам было не до званий. Привыкли не доверять судейским — наобещали с три короба, а что получишь — один Бог знает. Борис страшно волновался — многое в жизни перепробовал, под судом, к счастью, только не бывал, казалось, отныне будет на нем несмываемое пятно, однако процедура длилась не более пяти минут. Несколько кратких формальных вопросов, на которые можно было вообще не давать ответов. И вот уже зачитывается приговор. Длинное вступление, перечисление статей, наконец… Старостина Алексея Федоровича и Банатурского Бориса Семеновича приговорить к десяти годам лишения свободы. Однако, учитывая ходатайство коллективов и неких общественных органов, трибунал считает возможным отправить означенных лиц в ряды действующей армии, в состав штрафного батальона для искупления кровью вины перед народом и государством…
Ровно через неделю со станции «Новосибирск-товарный» отошел железнодорожный состав с боеприпасами. В хвосте поезда находились два «столыпинских» вагона с зарешеченными окнами. Едва переехали по мосту реку Обь, как новые попутчики Бориса и «Буры» с веселым гомоном принялись извлекать из объемистых «сидоров» водку, шматки сала, соленые огурцы, хлеб, лук, селедку. «Добровольцы» ехали на фронт из тюремных камер, но припасов у них было много, будто призывались в армию из отчих домов. И пошел пир горой по случаю освобождения. Подносили чарки и конвою. Пожилые солдаты из запаса от первача не отказывались. В вагоне стало жарко и весело. Завязались разговоры, все вертелось вокруг штрафбата:
— Братцы! Кажись, у штрафников такой закон: воюешь до первой крови. Ранение получил, из госпиталя вышел — в общий строй переводят.
— А будто бы, кто если во время атаки хоть на шажок отстал, того свои «пришивают»?
— В атаку идут — ура не кричат, страшно матерятся.
Вскоре началось невообразимое: кто-то диким голосом орал блатные песни, кто-то пьяно мычал, размазывая по лицу слезы. «Бура» сильно перепил и методично, будто маятник, бился головой о стену. Один из «блатарей» выхватил из тайника острую бритву и перекрестил ею живот. Конвой с трудом остановил хлеставшую кровь.
Борис смотрел на своих новых попутчиков с любопытством и без злобы. Был обмундирован и сыт. Позади — тысячи невообразимо страшных ночей и дней, впереди — неизвестность. Ему казалось, колеса вагонов, отстукивая ритм на стыках рельсов, выбивали одну и ту же фразу: «В штраф-бат еха-ли, в штраф-бат еха-ли фра-ера!» Он не заметил как задремал, а когда открыл глаза, то увидел, что солнце уже не било в зарешеченное окно, оно странным образом съежилось, округлилось и уместилось в ковше чугуновоза. Такое он уже где-то совсем недавно видел: по его жаркой поверхности чуть заметно перекатывались волнышки шлака. А на перилах, над доменным цехом, над кипящим ковшом с металлом, над смертельно уставшим от ужасов миром, над ослепшими от ненависти людьми, застыла на мгновение легконогая, девчонка. И он, Борис Банатурский, блокадник и «пособник врага», тянется, тянется к ней, губы его непроизвольно шепчут: «Их либе, Эльза! Их либе!»…