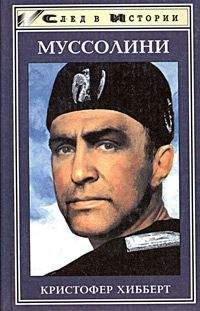Но, видимо, Андрей Трофимович, хотя и говорил так поэтически о выбившихся из-под снега цветах, не был легким, склонным к мечтаниям человеком. Когда один из главных инженеров попросил его обосновать директиву, полученную заводом, он властно оборвал его и угрюмым голосом сказал:
— Обоснования уже были даны, теперь я приказываю! — И при этом приложил ладонь к столу, словно поставил большую государственную печать.
Когда заседание окончилось и все стали прощаться с Постоевым, худой инженер в очках подошел к Штруму и спросил:
— Вы ничего не слышали о Николае Григорьевиче Крымове?
— О Крымове? — удивленно спросил Штрум и, сразу поняв, почему длинное, худое лицо инженера показалось ему знакомым, быстро спросил: — Вы родственник?
— Я Семён, младший брат его.
Они пожали друг другу руки.
— Я часто вспоминаю Николая Григорьевича, я его люблю,— сказал Штрум и с горячностью добавил: — Ох уж эта Женя самая, я на нее очень зол.
— А она здорова?
— Здорова, конечно, здорова,— сердито ответил Штрум, точно это было неприятно ему.
Они вместе вышли в коридор и некоторое время прохаживались, вспоминая Крымова и довоенную жизнь.
— А ведь мне о вас Женя говорила,— сказал Штрум,— вы на Урале быстро выдвинулись, стали заместителем главного инженера.
Семён Крымов ответил:
— Теперь я главный инженер.
Штрум стал расспрашивать его, возможно ли на уральском заводе наладить опытную плавку и выпустить некоторое количество стали, нужной ему для специальной аппаратуры.
Крымов задумался и ответил:
— Сложно, очень сложно, но надо поразмыслить,— и, лукаво улыбнувшись, добавил: — Ведь не только наука помогает производству, бывает наоборот, производство помогает науке.
Штрум пригласил Крымова к себе, но тот замотал головой:
— Что вы, где там, жена просила заехать к родным в Фили, у них телефона нет, и то, видно, не успею. Через час в наркомат, в половине двенадцатого назначен прием в ГОКО, а на рассвете снова вылетаю в Свердловск. Но телефон ваш на всякий случай запишу.
Они простились.
— Приезжайте на Урал, обязательно приезжайте,— сказал Крымов.
Он во многом походил на старшего брата — длинные руки, шаркающая походка, сутулость, только ростом был меньше.
Штрум снова зашел к Постоеву. Постоева очень утомило заседание, но он был доволен.
— Интересный народ,— сказал он.— Вам повезло всех вместе увидеть, главные тузы, их вызвали в ГОКО.
Он сидел за столом, с салфеткой на коленях; официант убрал окурки и, раскрыв окна, накрывал на стол.
— Обедать будете? — спросил Постоев.— Не отощали на домашних харчах?
— Спасибо, я обедал,— сказал Штрум.
— Упрашивать не стану, не такое нынче время,— сказал Постоев.
Официант усмехнулся и вышел из комнаты. Постоев стал рассказывать:
— По всему судя, многие москвичи как будто не отдают себе отчета в серьезности положения. В Казани, хотя она и на тысячу километров восточнее, настроение более нервное. Но там, где я вчера был,— он показал рукой в сторону потолка,— наверху, там охватывают всю ситуацию, общий взгляд на карту главных событий. И должен вам сказать, чувствуется по всему большое напряжение. Я прямо спросил: «Как положение на Дону, тяжелое?», а мне ответили: «Что Дон, возможен прорыв к Волге».— Он посмотрел на Штрума и раздельно произнес: — Вы понимаете, Виктор Павлович, это уж не обывательские разговоры…— Потом он вдруг сказал: — Хороший народ наши инженеры, а? Замечательный народ!
— Да,— сказал Штрум.— У меня вчера спрашивали: какой способ реэвакуации я считаю более целесообразным — постепенное перетаскивание или единовременный переезд? Без точных сроков, но вот вопрос этот задавался, как вы это свяжете с тем, что сейчас говорили?
Они помолчали.
— По-видимому, разгадка в том,— проговорил Постоев,— что вы сегодня от инженеров моих слышали. Помните: современная война есть война моторов. Вот наверху и подсчитали, кто их больше сегодня производит — мы или немцы. Знаете, на одного токаря в дореволюционной промышленности — наших целых шесть, на одного инструментальщика — у нас теперь двенадцать, у царя — один механик, а у нас — в девять раз больше. И так всюду.
— Леонид Сергеевич,— сказал Штрум,— я никогда никому не завидовал. Никогда! А вот сегодня, слушая вас всех, я, кажется, все бы отдал, чтобы работать там, где рабочие делают танковую сталь, где строят моторы.
Постоев полушутя ответил ему:
— Но-но-но, я вас знаю, вы одержимый, вас оторвешь на месяц от электронной и квантовой премудрости, вы и захиреете, как дерево без солнца.
Он задумался, потом вдруг улыбнулся:
— Как же вы решили проблему питания, великий семьянин и домосед?
59
Штрум жил в Москве в хлопотах и напряженных делах.
Но, несмотря на занятость, он почти каждый вечер встречался с Ниной. Они гуляли по Калужской улице, заходили в Нескучный сад, однажды смотрели кинофильм «Леди Гамильтон». Во время этих прогулок большей частью говорила она, а он шел рядом и слушал, изредка задавая вопросы. Штрум уже знал множество обстоятельств и подробностей ее жизни — и о том, как она работала в швейкомбинате, и о том, как, выйдя замуж, уехала в Омск, и о старшей сестре, которая замужем за начальником цеха на одном из уральских заводов. Она рассказала ему о старшем брате, капитане, командире зенитного дивизиона, и о том, что она, Нина, и ее сестра и брат сердиты на отца за то, что он женился после смерти матери.
Все то, о чем простодушно и доверчиво рассказывала Нина, почему-то не было безразлично Штруму, он помнил имена Нининых подруг и родственников, спрашивал:
— Простите, я забыл, как зовут мужа Клавы?
Но особенно волновали его рассказы о Нининой семейной жизни, муж ее был плохим человеком. Штрум заподозрил в нем множество пороков, считал его грубым, пьяницей, себялюбцем, невеждой и карьеристом.
Иногда Нина заходила к Штруму и помогала ему готовить ужин. Его трогало и волновало, когда она спрашивала:
— Может быть, вы любите перец, я принесу, у меня есть.
А однажды она сказала ему:
— Вы знаете, как хорошо, что мы с вами познакомились. И так жалко, что скоро уезжаю.
— Я к вам в гости непременно приеду,— сказал он.
— Ну, это только говорится так.
— Нет, нет, совершенно серьезно. Остановлюсь в гостинице.
— Куда там. Даже открытки мне не напишете.
Как-то он вернулся домой очень поздно, задержался на совещании, и, проходя мимо Нининой двери, с печалью подумал:
«Сегодня ее не увижу, а мне уж скоро уезжать».
На следующий день Штрум с утра поехал к Пименову, и тот весело сказал:
— Вот уже все формальности закончены. Вчера провели ваш план через грозную инстанцию товарища Зверева. Можете давать телеграмму домашним, предупредите о скором приезде.
В этот день Штрум условился встретиться с Постоевым, но позвонил ему по телефону и сказал, что приехать не сможет — возникло непредвиденное дело, и тотчас же поехал домой.
На лестничной площадке он увидел Нину, и сердце его забилось быстро и горячо, даже дышать стало трудно.
«Что это, почему это?» — спросил он себя, но, конечно, не было нужды отвечать на этот вопрос.
Он увидел, что и она обрадовалась ему, вскрикнула:
— Боже, как хорошо, что вы пришли сегодня раньше обычного, а я уж вам записку написала,— и она протянула ему сложенную треугольником записку.
Он развернул записку, прочел ее и спрятал в карман.
— Неужели вы сейчас в Калинин уезжаете? — спросил Штрум.— А я думал, мы пойдем гулять.
Нина сказала:
— Мне самой в Калинин не хочется, но надо.— Она посмотрела на огорченное лицо Штрума и добавила: — Я во вторник утром непременно вернусь и до конца недели пробуду в Москве.
— Я поеду провожать вас на вокзал,— сказал он.
— Ой, нет, это неудобно. Ведь со мной поедет одна наша омская сотрудница.
— Тогда зайдемте ко мне на минутку, выпьем вина за ваше скорое возвращение.
Войдя в коридор, она сказала:
— Да, совершенно забыла! Вчера приходил какой-то военный и спрашивал вас, обещал сегодня зайти.
Они выпили вина.
— У вас не кружится голова? — спросила Нина.
— Кружится, не от вина,— ответил он и стал целовать ей руки.
В это время позвонили.
— Это, верно, тот военный,— сказала Нина.
— Я с ним поговорю в передней,— решительно объявил Штрум.
Через несколько минут он ввел в столовую высокого военного.
— Прошу вас, знакомьтесь,— проговорил Штрум и, как бы извиняясь перед Ниной, объяснил: — Это полковник Новиков, он на днях прилетел из Сталинграда, привез привет от родных.
Новиков поклонился с той незрячей, безразличной вежливостью, которую выработала война у человека, в любое время — ночью и на рассвете — в силу обстоятельств вынужденного врываться в частную жизнь других людей. Его равнодушные глаза говорили, что ему нет дела до частной жизни Штрума, что его не интересует, кем профессору приходится эта красивая молодая женщина…