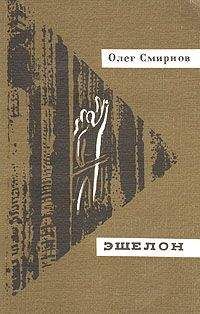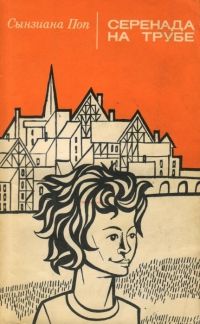И вдруг вспомнилась иная, далекая, смоленская деревня: она была, как и эта, под соломой, пыльная, с колодезными журавлями и срубами и так же безлюдна, потому что жители схоронились в лесу.
Деревня была километрах в двадцати западнее Рославля и называлась не то Ипатовка, не то Игнатовка. Забыл. А надо бы помнить. Все-таки, сдается, Ипатовка. Закрою глаза и увижу карту, разложенную на пеньке. Она измята, потерта на сгибах — лейтенант Глушков аккуратностью не отличается, — исчерчена разноцветными пометками. Условные обозначения, названия населенных пунктов. Да, точно — Ипатовка.
Деревня была раскидана по буграм: изба на бугре, пониже — огород, поскотина. Подумалось: эти избы на буграх — как надолбы. Увы, такие надолбы не могли задержать немецкие танки в сорок первом. Ипатовку фашисты прошли на третьей скорости, словно разрезав по большаку пополам. Деревня уцелела, потому что боев не было — наши части поспешно отступали. Два года спустя Ипатовка опять сохранилась, ибо немцы отступали с не меньшей поспешностью, без боев, не успев поджечь избы, что обычно делали. Тогда драпали мы нах остен, то есть на восток.
Теперь драпалп они нах вестей, то есть на запад. Вот такие пироги.
Стояло бабье лето: солнце, теплынь, паутинки, поределый, будто расступившийся лес-прясельник, желтые и рдяные листья, полегшая трава. Угасающее, грустное птичье цвирканье. А людям было радостно! Солдаты нашего полка, топавшие через Ипатовку, улыбались, выбравшиеся из лесу, из укрытия, бабы, старики и детишки обнимали их и целовали, и если кто из баб плакал, так разве чю от радости.
И у меня был рот до ушей: не так уж часто бывает, чтоб освобожденная деревня сохранилась. Чаще видишь кучи пепла, груды битого кирпича, печные трубы на пепелищах, обгорелые ветлы и не видишь людей — их немцы пли угоняли, или расстреливали, если находили в лесных схоронах. Натыкались мы, и не раз, на трупы женщин и детей, убитых немцами при отступлении. И я, вроде бы привыкший на войне ко всему, в сущности, так и не смог привыкнуть к виду женских и детских трупов. Глядя на них, я содрогался от сознания своей личной вины перед дорогими, милыми, беззащитными, кого я — а не мы — не уберег, отдал на поругание и смерть.
А в Ипатовке былн живые люди! Говор, смех, плач. Старики расчесали бороды, надели чистые и мятые, вытащенные из сундуков рубахи. Бабы тоже принарядились — косы уложены, платочки, жакеты. Голоногие, с истрескавшимися пятками пацаны завороженно глазели на наши погоны, звезды на пилотках, а бабы угощали нас холодной криничной водой. Такая водичка, когда протопал с десяток километров, потный и усталый, — это то, что надо.
Полк наш сразу же за деревней свернул в лес. Сперва подумалось: нас вывели в резерв. Передохнем в лесочке. Лучше бы, натурально, в избах, а не под сенью берез. Но против начальства не попрешь. Оно, дивизионное начальство, не разрешало подразделениям размещаться в деревнях — немцы могли засечь с воздуха и разбомбить, — однако само расквартировывалось именно там.
Как говорится, начальству виднее.
Быстренько, впрочем, выяснилось: остановились мы потому, что притормозилось наступление. Было слышно, как на западе неподалеку бухали пушки. Значит, завязался бон. Значпт, противник зацепился за какой-то оборонительный рубеж, и наш март преследования на сегодня кончился, надо вести бои и сбивать противника. Это не улыбалось, преследовать отходящих гитлеровцев куда как приятнее.
Пушки бухали остаток дня и ночь, утром послышались взрывы тяжелых бомб. В темноте над лесной кромкой дрожало зарево, растекалось по небу. При свете утра мы увидели, как на запад пролетели эскадрильи «ИЛов», а Ипатовкой пропылили тапки и артиллерия. Подтягиваются туда, где бон. Скоро и нас подтянут, пехоту, — обычное дело.
По утренней росе я накоротке наведался в деревню. Хотелось поговорить с жителями, если удастся, отведать молочка от бешеной коровки, сиречь самогона. Вопреки воле начальства, в деревне размещалась какая-то часть, — как я понял, саперы. Крепкие, с руками-кувалдами, они шуровали по дворам: кто починял изгородь или крылечко, кто точил лясы с молодайками, кто курил с дедком на завалинке. Выходило, что номер мой пустой, делать мне тут нечего.
Но номер не был пустым: старик, стоявший у ворот, кривой на левый глаз, с заросшими шерстью ушами, в треухе и рваных галошах, поманил меня узловатым, негнущимся пальцем. Я подошел.
Старик спросил:
— Закурить есть?
— Найдется, папаша. — Я достал пачку папирос.
Старик прикурил от моей зажигалки, с наслаждением пыхнул дымком.
— Духовпто, я т-те скажу!
— Нравится? Курите на здоровье!
— Како от курева здоровье! От самогонки — другой разговор.
Употребляешь?
Я скромно опустил глаза. Старик рассмеялся.
— Мужик — да чтоб не употреблял! Пошли-ка со мной, сыпок.
Он провел меня на выгоп за огородами. В кустах бересклета, оглянувшись, нет ли кого поблизости, поворошил опавшую листву, в ней початая бутылка. Зубами извлек матерчатую пробку.
— Храню в тайпостп от старухи. Первак. Дуй из горла. Ровную половинку.
Бутылка была прохладная, с налипшими листьями и травинками. Я принял молодецкий вид:
— Ну, папаша, со знакомством!
Запрокинулся, хлебнул. Вонючая маслянистая жидкость обожгла рот, глотку, грудь. Задыхаясь, сделал еще несколько глотков. Огонь! Даже слезы выступили. Старик усмехнулся, сунул луковицу:
— Закуси.
От лука слезы у меня навернулись еще сильнее. Старик истово перекрестился, сказал:
— С освобождением! Дожил я, значится… Аминь!
И единым махом, не отрываясь от горлышка, выпил самогон.
Спрятал бутылку в листве, не торопясь вытер губы рукавом. в удовольствии закрыл живой глаз, и мне показалось, что старик вообще ослеп. Ио он открыл глаз, по-стариковски блеклый и не по-стариковски пронзительный, посмотрел на меня. Я спросил:
— Вас как зовут, папаша?
— Филимои. По батюшке Терентьич. А тебя?
— Петр.
— Ну, давай, Петр, закурим.
Он затягивался, кашлял, сплевывал и прислушивался к тому, как гудит не столь уж далекий бой: И я прислушивался, прикидывая, не стронулся ли немец, не подается ли на запад. Не похоже, чтобы подавался.
— Под германцем быть — краше в гроб лечь. А теперя как заново народились, после освобождения-то, дожидались вас-то два годочка… Хоть помирай с радости!
— Зачем же помирать, Филимон Тереитыгч? — сказал я. — Жить надо!
— Надо, — согласился старик и попросил еще папироску.
Мне нужно было возвращаться. Я пожал ему руку, а он обнял меня, и тут мы расцеловались. Самогон уже давал о себе знать: я расчувствовался, снова поцеловал старика, сказал, что пусть живет сто лет, теперь жить да жить, все наладится, а мы немца погоним дальше.
Выпивон действовал! Я шел от деревни тропой, нырявшей под березы, и нырял вместе с нею. Ветки мягко шлепали по лицу и плечам, стволы мазались будто мелом, полужелтая, полузеленая листва осыпалась, шуршала под ногами, пахло горечью и прелью, и хотелось вдыхать и вдыхать этот грибной запах. Тренькали синицы, долбил дятел, — без конца слушал бы эти звуки. Голубое небо, оранжевое солнце, в низинке плескался молочный туман, осина пылала, как подожженная, — глаза не уставали смотреть на эти краски. Все было хорошо, славно, трогательно. До того трогательно, что в горле першило от умильных, никогда не проливающихся слез. У меня так: выпью порой и расчувствуюсь, до слез расчувствуюсь чему-нибудь, однако все это в душе. Разве только улыбаюсь безудержно и вздыхаю. Так сказать, от избытка чувств, подогретых вином. В данном случае самогоном. А вообще это здорово — жить!
Я прошел березняк, осинник, забрел в ельник. Здесь, в ельнике, и стоял наш батальон. Солдаты стучали ложками о стенки котелков. На опушке полевая кухня, повар в колпаке и нарукавниках. Давай подрубаем, повар. Подрубать сейчас в самый раз. Варево показалось мне необычайно вкусным, крутой чай — потрясающ. Папироска на десерт. Да здравствует радость бытия!
А после завтрака пас спешно построили и форсированным маршем повели на запад. Мы шли, и бой приближался к нам что-то слишком быстро. Потому что не только мы двигались к нему, но и он к нам. Да, под давлением немцев паши части отходили. И это в сентябре сорок третьего! И это после стремптельиого преследования!
Тягостно вспоминать, что было потом. Наш полк с ходу ввели в бой. Виданное стократно: изрытое курящимися воронками поле, поваленные, расщепленные деревья, горящие постройки хуторка.
Немцы били из артиллерии и «ванюш», снаряды и мины накрывали, секли осколками неубранные трупы наших бойцов. За льняным, дымившим на корню полем в дубняке взревывали немецкие тапки и самоходки. Над лесом — карусель воздушного боя, объятый пламенем и дымом, упал краснозвездный «ястребок», за ним, как привязанный, упал «мессоршмптт» со свастикой, два взрыва огромной силы потрясли округу.