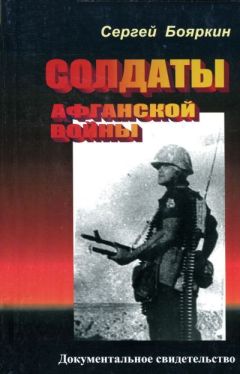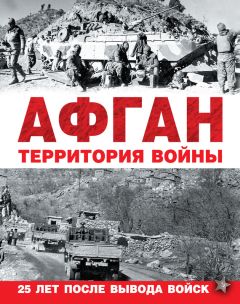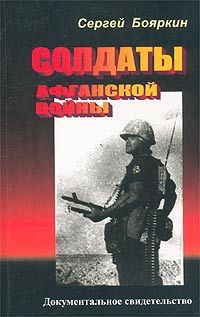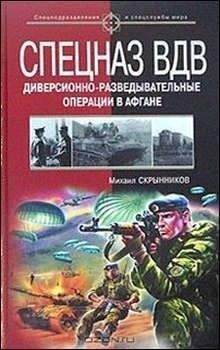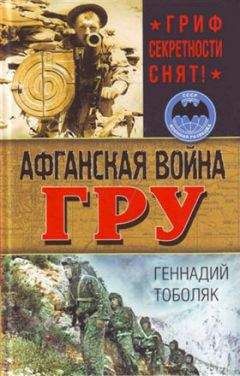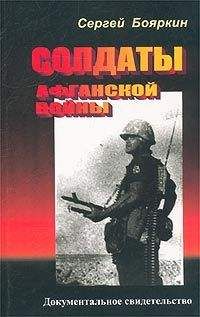Как равняли молодёжь
Молодёжь пришла на радость нам — дедам — работящая, покладистая. С ходу взвалили на свои плечи массу бытейских хлопот: трудились как и полагается молодым — с энтузиазмом. Казалось бы всё хорошо, да деды были недовольны: по их мнению, не выработалось ещё у молодых серьёзного отношения к службе. Вот уже прошло две недели, а они всё ходят петухами — чуть ли не до панибратства доходит. Думают, раз попали в Афганистан — значит герои, думают, здесь все на равных. Разговорчивые, весёлые.
— Ишь! Смеются!.. Анекдоты без конца травят! Весёлая жизнь! X… на службу забили! — брюзжали деды. — А как же — Афганистан! Герои!
Поначалу деды пробовали с ними говорить по- хорошему, — мол, ребятки, надо не просто делать, что говорим, а надо — метаться! Должна быть чёткость в выполнении. Надо всячески показывать своё уважение к нам — дедам. Ведь вы же в армии! Но, увы, зачастую эти добрые пожелания пропускались мимо ушей и должным образом не учитывались. Недовольство у дедов потихоньку накапливалось. Всё острее вставал вопрос о необходимости проведения воспитательной работы среди молодёжи. И повод не дал себя долго ждать.
На ужине молодые позволили себе дерзкую выходку: нарезали хлеб почти что на равные куски. Кто первый, расхватал себе куски что побольше и начали рубать. Я, поскольку внутренне был за равенство между призывами и не придавал особого значения толщине хлеба, взял первый попавшийся кусок.
— Ничего себе! Это что?.. Мне что ли? — недовольно хмыкнул Ефремов, глядя на оставшийся слабенький кусок хлеба. — Ладно! Вижу я, вы них..я не понимаете. Вы припухли! Прибурели! Сегодня вечером вас равнять будем! — аппетит у него был основательно перебит, к хлебу даже не притронулся. Молодые, вначале так радовавшиеся пище, теперь, поняв, что проштрафились, жевали, но уже без прежнего веселья.
Вечером, зная мою мягкую натуру, ко мне подошли Ефремов с Овчинниковым и предупредили:
— Сегодня будем молодых воспитывать, а то на дедов х… забили! Надо равнять! Надо! Ты можешь их не бить — твоё дело, но главное должен присутствовать, стоять вместе со всеми.
Хоть мне эти разборки были не по душе, но против своих пойти не мог:
— Ладно, буду.
И вот стемнело. Рота отбилась. В помещении роты выключили свет. Немного погодя, деды собрались в небольшую компанию и, закурив, завели дружеский, неторопливый разговор. Ефремов на секунду отвлёкся от беседы и тихо сказал:
— Май восемьдесят, строиться.
Пятеро новеньких спрыгнули со второго яруса и, выстроившись в одну шеренгу, ждут что будет дальше. Однако деды словно про них забыли: общаются между собой, курят и даже не смотрят в их сторону. В дальнем углу мягким красным светом освещает стены комнаты печурка, в соседнем взводе негромко бренчит гитара. Пять, десять минут проходит — молодые всё стоят в одних трусах, поёживаются. Эта выдержка специально делается, чтоб те прониклись и лучше осознали свою вину, чтоб обострить их изнеженные чувства. Ожидание неизбежного наказания само по себе мощнейший психологический прессинг. Но вот, наконец, кто-то из дедов “вспомнил” об их существовании. Он повернул в их сторону голову и спокойно сказал:
— Упали, работаем.
Шеренга молодых легла на пол и стала отжиматься. Через пять минут они выдохлись.
— Отставить, нах..! — они встали.
— К бою!
— Отставить!
— К бою!
— Отставить!.. — и молодые беспрерывно вставали и падали. Это выработанная с годами практика — перед тем как бить, молодых обязательно надо вымотать до предела.
Затушив сигарету, Ефремов не спеша подошёл к шеренге:
— Вы, желудки, нас что, за дедов не считаете?.. Что, за дедов не считаете, я спрашиваю? А-а?
— Считаем, — ответил один слабый голос из строя.
— X..ля ж тогда хлеб растащили?.. Вас наверно, п..дить надо?
— Нет, не надо, мы всё поняли — больше такого не будет — неуверенно протянул тот же голос.
— Надо! По другому вы них..я не понимаете! — и двинул первому же в челюсть, потом другому, и так прошёлся вдоль всего строя. К нему тут же подключились ещё двое дедов, и тоже стали бить и пинать молодых. Кому вдарят в живот, тот загнётся, ему тут же командуют: "Встать, сука!" — и снова дубасят.
Деды из соседнего 1-го взвода, который располагался в смежной комнате, видя, что у нас полным ходом равняют, тоже, увлёкшись нашим примером, заодно построили своих молодых и стали их сначала качать, а потом и избивать.
Для старослужащих равнение молодых — являлось естественной и довольно обыденной частью службы. Некоторым дедам эти мордобойные сцены были абсолютно безразличны, даже не было никакого любопытства: за свою службу такого уже успели насмотреться. Одни общались, ни на что не обращая внимания, другие просто спали, всё так же уныло бренчала гитара — как будто ничего такого и не происходит.
Я лежал у себя на втором ярусе и наблюдал за происходящим. Второй ярус считается для деда недостойным местом — дед должен спать на первом ярусе, и это мне не раз высказывали. Но мне нравилось наверху: можно смотреть на широкий потолок, а не на матрас, который закрывает всё обозрение. В сумраке мешались удары, шлепки, стоны, всхлипывания. Налетели воспоминания о своей молодости: вот точно так же ещё совсем недавно стояли и мы, и точно так же нас отхаживали.
Избиение продолжалось. Уже раздавались жалобные выкрики:
— Не будем! Никогда!
— Мы всё поняли! Не надо!
Я, видя что деды уже входят в раж и сейчас будут пинать лежачих, соскочил с постели:
— Кончай! Хватит для начала! Ну не поймут — тогда и добавим!
Тут все деды набросились на меня:
— Пошёл ты..! Что, жалко их стало? А нас кто жалел? Заступник нашёлся! Смотри, насядут — потом поздно будет!
Обстановка была так накалена, что дело чуть не дошло до драки. Для меня это было тяжёлым испытанием: получилось, что я выступил против своего призыва. Но, слава богу, всё улеглось. Однако общий настрой был перебит, молодым скомандовали отбой и все завалились спать.
Со следующего дня весёлые улыбки на лицах у молодых больше не расцветали. Метались они теперь, как пули. Утром у каждого деда на столе лежал толстенный кусок хлеба покрытый толстенным слоем масла, и кто сильнее их дубасил, у того кусок был толще. А у меня был — обычный, даже ближе к молодому. Деды жевали свою порцию и весело поглядывали на меня. Я почувствовал обиду.
Все последующие дни я всё больше и больше убеждался, что оказался в дураках. И дело тут не в кусках хлеба, и не в том, что деды стали относиться ко мне с недоверием и прохладцей. Я видел, что стоило Ефремову дать какое-нибудь задание молодому — как он стрелой улетал исполнять, а скажу я — тот же молодой приступает к работе нехотя, а то и пререкается, даже выполняя в первую очередь задание фазанов, которые ему регулярно “чистят свисток”. Этим они как бы молча давали мне понять: "Плевали мы на то, что ты на два призыва старше — мы признаём только тех, кто нас бьёт".
Всё это послужило мне запалом для долгих философских раздумий. Я стал приходить к мысли, что как это ни парадоксально, но в неуставщине была своя необходимость и даже определённая справедливость. Когда порядок держится не на добровольном желании, а на принуждении, то обязательно одни солдаты будут угнетать других — это неотвратимый закон. Не будет старший призыв давить младшие — то тогда случится ещё худшее — тогда более сильные станут давить слабых. Пройти в течение первого года наравне со всеми полный курс унижений, но потом год нормально жить — всё-таки не так обидно, чем если бы с самого начала наглые и крепкие сразу бы определились и давили бы своих однопризывников все два года. Собственно так оно и происходило в тех некоторых частях, которые комплектовались целиком из солдат одного призыва. Начальство наивно полагало, что таким образом можно избежать неуставных отношений. И что же? Эксперименты на живых людях показали, что всё равно, забыв про армейскую дружбу и взаимовыручку, одни солдаты били других, только все два года напролёт. Так что вывод я сделал однозначный: неуставщина — это неизменный спутник любой призывной армии, где вместо службы солдат заставляют вкалывать по хозяйству.
С новым призывом к нам в роту из дальней командировки прибыл Джемакулов. До прибытия молодых Джемакулова месяца два не было в части. Он и его друг и однопризывник Шипуля были отправлены на Родину сопровождать гробы с погибшими на боевых. Погибшие были даже не из нашего полка. Убитых они в глаза ни разу не видели, но это было и не важно. Главное, они оба были сержантами и на хорошем счету у командиров — а сопровождать погибших доверяли только сержантам. При каждом гробе было двое сопровождающих: офицер и сержант. Сопровождать гроб считалось не просто сачковым занятием — здесь, в Афганистане, это была единственная лазейка для солдата побывать в отпуске. Только перед отпуском надо было доставить погибшего к родителям, проследить, чтобы родственники не вскрыли крышку гроба, ну и рассказать им историю о гибели их сына: