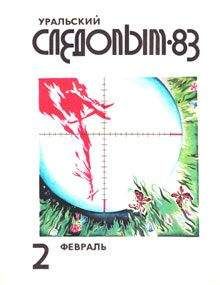Так началась наша новая жизнь — с похорон… Немножко накопали картох с огорода, а из колхоза ничего не дали, — Кулюшка вдруг спросила: — А где ж это Манька?
— За водой пошла, да что-то вот долго ходит. Заигралась, наверно, с подружками.
— Ох, Веля, грех жаловаться на малое дите, да что поделаешь. Ить она, сынок, разбойничает.
— Как это?
— А вот как. Выманивает у своих подружек хлебушко ли, картохи, а коли выманить не удается — отбирает. Моим девочкам чаще всех приходится терпеть от нее, потому как с ними она крепче дружит. Я, Веля, понимаю, я сама иной раз ей скибочку хлебца отрежу или пару картошин дам, да ведь не могу же ее на полное иждивение взять.
У Велика даже слезы выступили от стыда, как будто это его самого уличили. Разбирало зло на Манюшку и в то же время было жалко ее и хотелось защитить.
— Дали бы сдачи, — хмуро сказал он. — Праскутка-то твоя и по годам старше, и по силе ей ровня. К тому ж их двое.
Кулюшка с досадой махнула рукой.
— И-и, какая там сдача! Ты сам знаешь, Веля, дело не в годах и не в силе. Она, Манька-то твоя, бойкая, нахрапистая, задира — одним словом, оторва, а мои девки смирные и к тому ж в рот ей заглядывают. И боятся ее, и вроде как почитают… Ты, Веля, приструнь ее малость, ладно? А то что ж это? Нищий у нищего…
Манюшка появилась сразу, едва за теткой закрылась дверь. Это наводило на мысль, что она тут где-то неподалеку караулила. Поставив полупустое ведро на лавку, полезла ухватом в печь.
— О, тут уже вовсю кипит, а он и ухом не ведет.
Она, видно, хорошо уже усвоила, что лучший способ обороны — это нападение.
А Велик мучился: надо ее воспитывать, а как? Это ж целая наука — и держаться требуется по-особому, и беседу вести. Он никогда еще никого не воспитывал.
— Ты… это… — промямлил он, уже когда они сели завтракать.
— Нажаловалась тетка, я так и знала, — перехватила разговор Манюшка. Она возвела глаза к потолку. — Мати царица небесная! За что?.. И все это неправда, если хочешь знать.
— Что неправда?
— Все, что наговорила.
— Да откуда ты знаешь, что она говорила?
— Знаю: она меня стращала тобой.
— Значит, было за что?
— И совсем нет. Мне Катька отломила от скибочки, а она увидела и говорит: «Зачем отнимаешь?» А я говорю: «Я не отнимаю, она сама мне дала». А Катька, ябеда, сразу захныкала и сказала, что я у нее насильно отломила.
У нее не сходились концы с концами, и она изворачивалась, снова попадала впросак и снова начинала выкручиваться, как могла. Велик злился все сильнее и наконец взорвался.
— Ты мне бросай это! И воровать картохи на чужих огородах! Поняла?
Манюшка заплакала.
— Да, а чго я могу поделать, если меня ужака мучает? — Голосок у нее стал тоненький, жалобный. — У нас же ничего нет, мы ж помрем с голоду.
Возразить тут было нечего, и Велик, опустив голову, некоторое время молчал с убитым видом. Но оставить все как есть он не собирался: не хватало еще, чтобы Манюшка стала наказанием и посмешищем всей деревни.
— Ну, вот что, — сказал он тихо, — надо тебя в детдом. Сыта будешь, одета, обута. А тут и правда помереть недолго.
Манюшка даже плакать перестала. Она смотрела на него с ужасом и трясла головой.
— Не надо. Велик, миленький, — прошептала она, — я не хочу… У меня, может, отец придет с войны… Я все-все… как ты скажешь… Только не отдавай. Я там сразу помру.
Велик молча доел свою картошку.
— Ладно, — сказал хмуро. — Собирайся, пойдешь в рощу за грибами. Попутно нарви щавелю. А я на Навлю — ловить рыбу. Каждый день будем ходить, насушим грибов, насолим рыбы.
Манюшка повеселела.
— Зимой только водичку попивать будем, ага?
— Ага. Но ты помни: детдом под боком, в Соколове.
Год прошел с той поры, как Велик расстался с Навлей. Все это время она жила в нем. В заветном уголке души таилась уверенность: что бы ни случилось, а где-то течет Навля. Это не могло заслонить от фашистских пуль, от голода и горя, но — помогало жить.
И вот она течет наяву, перед глазами, ласковая, чистая река его детства, его жизни. Над нешироким бойким ее течением по-прежнему гудят шмели и вьются стрекозы, и густой ивняк низко склоняется к бегущей воде и полощет в ней свои ветви.
Велик перебрался на лесную сторону и пошел по заросшей дороге вдоль берега. Вот и поваленная в реку береза, что когда-то укрыла их с Толиком Демоном, а потом спасла Степкиных мать и сестер. А вон там на его глазах погиб сам Степка, не дотянув до берега всего каких-то два-три шага. Давно сплыла Степкина кровь, и его тело, наверно, течение протащило по Навле, Десне, Днепру и выбросило в Черное море. Береза окончательно оторвалась от берега, сползла вниз, ее верхушка уже мокла в воде. Дерево умирало, но еще жило: мощное корневище подавало в ствол какую-то толику соков, и среди голых умерших сучьев еще зеленели кое-где живые ветки и лопотала на ветру листва.
Устроившись на березе, Велик забросил удочку. Сразу начали брать плотвички. Постепенно печальное чувство, навеянное встречей с вечной Навлей и умирающей березой, рассеялось.
«Ничего, Навля не даст пропасть, — думал Велик, сосредоточенно глядя на бегучие воды, в которых колыхался его поплавок. — Вон коровы — едят одну траву и не умирают. Так что летом можно продержаться на щавеле, чесноке, котиках, свинухах, борще. А на зиму рыбы заготовим, грибов…»
Правда, насчет рыбы его светлые думы несколько потускнели, когда после долгого сидения (полдня, считай, провел у реки) он подсчитал свои трофеи — пяток плотвичек и два пескаря. И то хлеб, конечно, но на обильные рыбные запасы надеяться не приходилось. Он смотал удочку и пошел берегом назад, к переезду.
Занятый хозяйственными мыслями, Велик смотрел по сторонам, прикидывая, чем можно поживиться в лесу.
В одном месте лес отступал от дороги. Местность некруто шла на подъем, и по всему этому пространству к реке спускались молодые, сильные и стройные дубы. Их возглавлял приземистый матерый ветеран с огромной кроной. Он почти достиг уже дороги — не дошел всего несколько шагов. Трава под ним была густо усеяна желудями.
— Здорово, дядя! — подойдя к дубу, сказал Велик, похлопал по шершавому стволу и прислонился к нему плечом. — Я гляжу, у тебя урожай зря пропадает. А у нас с Манюшкой жевать нечего. Поделись.
Он снял с себя рубаху, завязал ивовым лыком рукава, ворот и принялся набивать эту самодельную сумку желудями. А что, желудь — неплохая пища. Жареный очень даже вкусный. И сытный: горсточку съешь — и уже пить хочется. Если высушить, а потом смолоть или потолочь, получится мука. Никто в деревне, правда, не печет хлеб из желудевой муки, ну так что?. Просто никто не додумался. А он вот додумался… Желудей в лесу полно… Ясно, надо и другое заготавливать. Например, орехи. Дички — груши и яблоки. Насушить, и зимой знай попивай взвары. Правда, кисло, зато полезно…
От встречи с Навлей, от удачного многообещающего открытия у Велика было хорошее настроение, и все предстоящие житейские трудности казались преодолимыми.
В таком настроении он пришел домой. Хата была изнутри заперта на щеколду.
«Наверно, еще не вернулась из рощи, — подумал Велик про Манюшку и усмехнулся. — Никак грибы не дотащит».
Он прошел к задней двери, тоже запертой изнутри, и специально припрятанной рогулькой через щелку отодвинул щеколду и вошел в хату. Не мешкая, затащил свою ношу на печь, высыпал желуди на теплые кирпичи. Облегченно вздохнул и занялся рыбой. «По парочке сварим нынче, попразднуем, остальных засушу про запас».
Но не успел он очистить первую рыбину, как прибегала Кулюшкина дочь Праскутка. Рыженькая, круглолицая, она напоминала своего покойного брата Степку. Прижав руки к груди, девочка затараторила испуганно-возбужденно:
— Вель, там твою Маньку привязали. Она полезла в Антонихин огород, а Антониха подкралась и — цап! Теперь сидит привязанная, как теленок.
Этого только не хватало! Не дав себе времени на раздумья (начнешь раздумывать — потеряешь решимость), Велик с ножом в руке выскочил из хаты и помчался на тот конец. Праскутка не поспевала за ним и умоляюще кричала:
— Вель, не беги так, я тоже хочу поглядеть, как ты ее будешь отвязывать!
Манюшка сидела под грушей со связанными за спиной руками. Конец веревки был обмотан вокруг нижнего сука. К удивлению Велика, она была спокойна, как будто пришла сюда понежиться в холодке. Но когда девочка зыркнула на него исподлобья, он заметил притаившуюся в глубине ее глаз беспросветную усталость, какая бывает у человека на пределе сил. Вдали на лужке за огородом виднелась кучка ребятишек. Время от времени они принимались выкрикивать разные советы потерпевшей, ругать Антониху, которая неподалеку от Манюшки полола грядки. Заметив Велика, она с тяпкой в руке побежала ему навстречу. Он загородил девочку, поднял нож и хрипло, срывающимся голосом сказал: