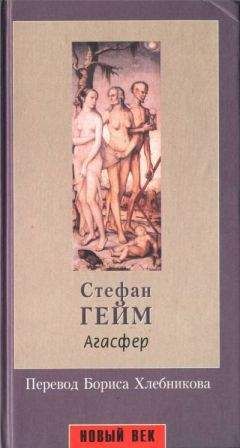Тогда Лестер ринулся к Черелли. Тот, видимо, испугался, и Лестер успел отметить это со злорадным удовлетворением. Черелли отпрянул от него и бегом пустился вперед. Гораздо позже он рассказал Лестеру, что даже не видел, как тот шел на него, подобный разъяренному быку; просто он заметил, что Трауб побежал, и ему не захотелось оставаться одному.
А Шийл один бежал впереди, один против целого дота. Страшная злоба заливала все его существо. Так бывало с ним в детстве. Когда на него находило, он бросался на пол, брыкался, никого не подпускал к себе. Теперь он был зол на Лестера, который не захотел помочь Саймону; Саймона Шийл уже не помнил, но злоба осталась и разгоралась все жарче от сознания несправедливости; он один бежит по открытому месту к доту, откуда в него целятся немцы. Он завидовал немцам — им хорошо, они за толстой стеной. Он их ненавидел, хотя не знал, сколько их и какие они, молодые или старые. Он осыпал их самыми страшными ругательствами, какие мог припомнить, надеясь, что они услышат и поймут; он рвался убивать, и не быстро — лишь бы убить, — а не спеша, со смаком. Он ненавидел их, потому что был отдан им на растерзание, и они хотели убить его, а он был беззащитен.
Лестер добрался до дота последним. Он посмотрел на часы. Прошло восемь с половиной минут.
Наступила поразительная тишина. Фулбрайт приказал солдатам, прикрывавшим атаку Лестера, прекратить огонь; а немцы, засевшие в доте, ничего не видели, и они насторожились и ждали.
Черелли приник ухом к бетону.
— Ничего не услышишь! — сказал Лестер, но вполголоса, словно немцы могли его услышать. Потом он сказал: — Пошли, а то еще вылезут и свалятся тебе на голову. Давайте мне эту штуковину.
Черелли осторожно передал шестовой заряд Шийлу, тот Лестеру. Сержант подержал его обеими руками, словно взвешивая. На какой-то миг его голова и плечи закроют амбразуру, окажутся прямо перед дулом германского пулемета. Он представил себе, что увидит пулеметчик — только черную-пречерную тень. Может быть, немец не сообразит, что это такое, и не успеет выстрелить.
— Если не сработает, — сказал Лестер, подразумевая: «если меня убьют», — следующим идет Шийл. — Если меня убьют… Но он не верил, что его могут убить. Сознание не принимало этой возможности, хотя распорядиться на случай своей смерти он был обязан.
— Ладно, — сказал Шийл. — Знаю.
Тогда Лестер поджег шнур. Он вскочил на ноги и сунул шест, обмотанный тринитротолуолом, в амбразуру дота, как пекарь сует в печь лопату с тестом, которое поднимется, превратится в горячий хлеб и насытит голодных. Лестер не думал о таких сравнениях; он только чувствовал, что слишком долго полз, бежал, уговаривал и теперь наконец делает нужное дело.
Ничего не произошло. Возможно, что немца, припавшего к амбразуре, и других, стоявших с ним рядом, этот нежданный вестник из внешнего мира застал врасплох. Ведь как-никак это глупо: они укрыты крепкой стеной, у них оружие новейшего образца — полевое орудие, пулеметы, карабины, — и вдруг к ним просовывается этот шест…
Лестер протолкнул его внутрь как можно дальше.
Потом он в изнеможении опустился на землю и закрыл глава.
Земля сотряслась. Словно разбуженные толчком, они вдруг поняли, что работа их закончена, что они выиграли бой. Черелли выпрямился и хрипло прокричал «ура».
Трауб рассмеялся, глядя на него. Лестер неподвижно сидел на земле, отдыхая.
Шийл сказал:
— Не хотел бы я увидеть, что там творится. — Злоба его испарилась. Так бывало и в детстве, когда он, вволю накричавшись, переставал брыкаться и затихал.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.
ЗА УПОКОЙ ЖИВЫХ
В разгар немецкого отступления фельдмаршал фон Клемм-Боровский был назначен командующим той немецкой армейской группой, которая занимала весь центральный сектор на Западном фронте.
Петтингер, прибывший в штаб фронта через несколько дней после того как маршал принял командование, не раз задумывался над тем, что заставило Берлин выбрать Клемм-Боровского для реорганизации и преодоления разрухи. Фельдмаршал не был боевым генералом; ему ни разу не пришлось вести в сражение хотя бы роту. Он был математик, специалист по передвижениям войск, и любил ордена и медали, с помощью которых старался придать более внушительный вид своей узкой груди. Петтингер, у которого был на это глаз, презирал его юнкерские покушения на элегантность, его манеру туго стягивать пояс, отчего живот только сильнее выдавался и сверху, и снизу.
Однако маршал был не так прост, как показалось Петтингеру по первому впечатлению. То, что Клемм-Боровский разогнал весь штаб своего предшественника, можно было понять как суеверие, как боязнь, что невезение, раз привязавшись к людям, сопровождает их постоянно, делает их хроническими неудачниками, но этот же поступок указывал на твердую уверенность в своих силах и на понимание того, что штабу, потерпевшему такое поражение, потребуется для перестройки больше времени, чем допускает положение на фронте.
Слушая высокопарную фразу маршала: «Любезный Петтингер, тот день, когда я вступаю в командование где бы то ни было, является началом новой эры», — Петтингер в глубине души проклинал тот день, когда провалился заговор Витцлебена и Гитлер перестал доверять кому бы то ни было, кроме нескольких высших генералов. Однако меры, принятые Клемм-Боровским для того, чтобы укрепить фронт и задержать отступление, показывали, что у маршала слово не расходится с делом и что он имел право первым из генералов послать Гитлеру поздравительную телеграмму по случаю избавления фюрера от бомбы злоумышленника. Сам Петтингер видел в заговоре Витцлебена явное доказательство раскола в верхах — между теми, кто считал войну проигранной и хотел выйти из нее с наименьшим ущербом, и теми, кто полагал, что для Германии и теперь еще возможна победа.
Клемм-Боровский не только послал телеграмму, он сделал больше: он принял это трудное и, по всей вероятности, неблагодарное назначение.
Петтингер считал поражение немыслимым. Это была глубокая уверенность, для которой он постоянно искал подтверждения в фактах. Несмотря на противоположность их характеров, эти поиски заставили его желать расположения маршала, подойти к нему ближе. Он представил на рассмотрение Клемм-Боровского несколько предложений, которые, как он думал, должны были понравиться человеку такого склада; если они будут приняты, Петтингеру представится дополнительное преимущество — возможность разъезжать, позаботиться об интересах концерна Делакруа и получить остальные деньги по записке князя Березкина.
В конце концов маршал вызвал Петтингера и обстоятельно расспросил. Петтингер сообщил ему только наименее пикантное о своем бегстве из Парижа: о благополучном прибытии на командный пункт немецкого артиллерийского батальона, откуда он пробрался в армейскую группу. Он опустил все, что могло дать маршалу повод считать его дезертиром: свой побег, унылые скитания с артиллерийским батальоном и то, как он, угрожая пистолетом, загнал своего друга, майора Дейна, в объятия командира на сборном пункте для отставших. Что касается остановок на заводах Делакруа и совещаний с их директорами, то все это совершенно не касалось Клемм-Боровского.
Клемм-Боровский слушал. По-видимому, это был человек, который охотнее слушал, чем говорил. Вдруг он буркнул:
— Я вас проверял, вы это знаете?
Петтингер взглянул в мутные зрачки маршала, скрытые за толстыми очками в роговой оправе. Проверку Петтингер считал в порядке вещей. Он был эсэсовец, а после заговора Витцлебена со стороны маршала было естественно подозревать, что его приставили к штабу фронта в качестве осведомителя.
— Мне сообщили, что вы на отличном счету, — помолчав, сказал маршал.
Петтингер кивнул. Если этот коротенький, похожий на филина, человечек его боится, тем лучше.
— Я математик, — сказал маршал. — Я могу вычислить, на какое пространство мы продвинемся в такое-то время, могу доказать вам, что один хороший солдат равняется трем плохим и что при известных благоприятных условиях один плохой солдат равняется одному хорошему — например, за стеной железобетонного укрепления. Но я ничего не смыслю в людях.
— В людях? — спросил Петтингер.
— Да, вот именно. А все ваши предложения касаются людей. Мне они кажутся рискованными. Думаю, что мы оба из-за них можем попасть в петлю. А я хотел бы знать наверное, что рискую не один.
Петтингер понял. Специалист по передвижениям войск, очевидно, все-таки знал людей, если не в массе, то как отдельных личностей.
— Но ваши предложения совпадают с моим планом, — продолжал Клемм-Боровский.
— А в чем состоит этот план, ваше превосходительство?
Маршал усмехнулся и откинулся на спинку кресла.
— Предположим, вы мне это скажете сами, герр оберштурмбаннфюрер?